Шутиха-Машутиха - [139]
Ступив на асфальт, Арсений всегда идет не спеша. Он готов приступить к осмысленному шаганию вдоль магазинов, с новой силой возненавидеть очередь, хвостом упирающуюся в стеклянную витрину, тяжеленные сумки, с которыми женщины неуклюже спускаются с крыльца. Он готов поразмышлять о подавлении личности, о безнравственности очередей, но тут кто-то налетает на него сбоку и чмокает в щеку. И Арсений сразу понимает — Виола. Ну кто еще может вот так налетать и чмокать в щеку? Всегда внезапно, всегда одинаково шумно.
— Арсик, приветик, опять колючий. Ты почему не позвонишь? Ты знаешь, я прошла на зону. Хвалил московский представитель. Я его видела, он мне дико понравился, ручку целовал, пригласил ужинать в ресторан, да этот дурацкий выставкой засиделся. Ну ты как, не женился еще? Знаю, знаю, всех женщин любишь, ни одной нет, и дурак, поехал бы в командировку на Север, проветрился, может, что и пришло бы тебе в голову. Ну ладно, Зубков, я полетела, надо еще к портнихе забежать, и вообще масса дел; как всегда, ничего не успеваю. — Виола уже отлетела, а он знал, что вот сейчас, с расстояния, еще что-нибудь крикнет. И она крикнула: — Я сейчас заканчиваю потрясную картину! Такого у меня еще не было, заходи посмотри. — И, не дождавшись ответа, быстро пошла дальше.
Арсений знал, что никогда он не придет к ней в мастерскую в мансарде нового дома смотреть ни эту «потрясную», ни какую другую картину.
Шел мимо магазинов, не замечая лиц, витрин. Словно пошел густой снег и отгородил его лицо от пестрой людской толпы. Он никого не видит и сам невидим. Предчувствовал длинный вечер, который соберет в нем отголоски разговоров, и Виола из всех углов будет пялиться на него. Арсений свернул в проходной двор, словно боясь, что Виола может догнать и обрушить шквал без точек и запятых. Он совсем не хотел, чтобы на него так стремительно налетали, беспардонно чмокали и считали это проявлением дружеских чувств, делая вид, что это вполне допустимая форма общения бывших супругов. Этот оптимизм, исходивший, казалось, из желудка, ошеломлял Арсения и вырывал из привычного русла. Он мог простить и понять совсем чужих людей, но чтоб некогда, как казалось ему, родной человек налетал, чмокал и считал это вполне приличным и приемлемым, считал закономерной, что ли, формой продолжения родственных связей, этого он не мог не только понять, он не мог этого Виоле простить. Как могла она, считая себя утонченной, с сильно развитыми биологическими полями, не понять, что продолжает приносить ему одну лишь боль? Неужели не замечает, что он сознательно избегает ее? И если она, как говорила, когда-то сколько-нибудь любила его, почему не может сдержанно, подобно Арсению, ходить мимо, уважая память и чувства, которые были частью их общей жизни не год и не два, а целых пять лет?
Да, Виолетта усовершенствовала его одиночество, привнесла в него неистребимую тоску по теплу и женственности, до превосходной степени подняла желание наделить женщину всем, что от природы. Не «ядра и бедра», а это с благословения Виолетты подхватили все в Фонде, лепил он все эти годы. Он лепил Женщину и жил ожиданием встречи с ней. Многоликой. Святой. Жертвенной. Умеющей выплакаться на мужском плече.
Виолетте все вылепленные им женщины казались уродливыми. Сама она, как змейка, была юркой, сухой. Как бы она могла расцвести, раскрепоститься после рождения ребенка! Но она не захотела, оставшись женщиной-подростком. Такие женщины гуртовались вокруг Сбитнева, толклись на открытиях выставок, умели незаметно создать необходимость в себе. Арсений давно определил для себя эту категорию женщин как мало оборудованных для тепла и даже мысленно прозвал «нержавейками». Они не раздражали его и не смешили своими наивными вопросами «под девочек». Он их всех оптом жалел, видимых и других, живущих далеко от него. Он предвидел их скомканную старость, оправдательные речи по поводу одиночества.
Он рассказывал о материнстве и тепле как умел, протестуя против технократизированного мышления, под которое подмяло женщину. Ему душу рвала прожига Таня-референт, которая в Союзе художников отвечала за рекламу, афиши и прочую чепуху, а вечерами шла в ресторан то с одним, то с другим — кто позовет. Бродила из одной мастерской в другую и уходила в ночь с тем, кто в ней нуждался. Все знали — пойдет, только позови. И не годы шли, а сама жизнь пробегала мимо Тани. Стоило заговорить о ней, все улыбались. С общего молчаливого согласия уходил в небытие человек. Над ней потешались так же, как потешались над мальчишкой-цыганенком, плясавшим среди вокзальной колготни, крякая и подбадривая его пляску: «А ну еще, ром, ну еще, чертенок! А ну поддай, рубль дам!» Толстый мужик в дубленке почти приказал ему: «А ну на животе спляши, а то милиционера позову!» И цыганенок, испуганно метнувшись глазами в его сторону, упал на живот и завертелся вьюном, захлопал ладошками с въевшейся грязью по вокзальному полу. «От молодец! А ну еще, в другую сторону!» — поощрял мужчина. У цыганенка покрылся испариной лоб, он, видимо, устал, но слово «милиция» удерживало его на животе. «Давай-давай! — под всеобщее одобрение требовал мужчина. И все покатывались со смеху. — Еще давай! Рубль дам!»

Тюменский писатель, лауреат премии Ленинского комсомола Л. Заворотчева известна широкому читателю как мастер очеркового жанра. Это первая книга рассказов о людях Сибири и Урала. Крепкая связь с прошлым и устремленность в будущее — вот два крыла, они держат в полете современника, делают понятными и близкими проблемы сегодняшнего дня.

В романе американской писательницы Лоры Сегал «Полкоролевства» врачи нью-йоркской больницы «Ливанские кедры» замечают, что среди их пациентов с загадочной быстротой распространяется болезнь Альцгеймера. В чем причина? В старении, как считают врачи, или в кознях террористов, замысливших таким образом приблизить конец света, как предполагает отошедший от дел ученый Джо Бернстайн. Чтобы докопаться до истины, Джо Бернстайн внедряет в несколько кафкианский мир больницы группу своих друзей с их уже взрослыми детьми. «Полкоролевства» — уморительно смешной и вместе с тем пронзительно горький рассказ о том, как живут, любят и умирают старики в Америке.
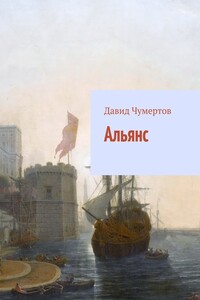
Роман повествует о молодом капитане космического корабля, посланного в глубинные просторы космоса с одной единственной целью — установить местоположение пропавшего адмирала космического флота Межгалактического Альянса людей — организации межпланетарного масштаба, объединяющей под своим знаменем всех представителей человеческой расы в космосе. Действие разворачивается в далеком будущем — 2509 земной календарный год.

Повести «Акука» и «Солнечные часы» — последние книги, написанные известным литературоведом Владимиром Александровым. В повестях присутствуют три самые сложные вещи, необходимые, по мнению Льва Толстого, художнику: искренность, искренность и искренность…
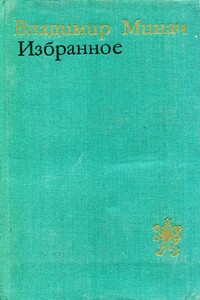
Владимир Минач — современный словацкий писатель, в творчестве которого отражена историческая эпоха борьбы народов Чехословакии против фашизма и буржуазной реакции в 40-е годы, борьба за строительство социализма в ЧССР в 50—60-е годы. В настоящем сборнике Минач представлен лучшими рассказами, здесь он впервые выступает также как публицист, эссеист и теоретик культуры.

От автора… В русской литературе уже были «Записки юного врача» и «Записки врача». Это – «Записки поюзанного врача», сумевшего пережить стадии карьеры «Ничего не знаю, ничего не умею» и «Все знаю, все умею» и дожившего-таки до стадии «Что-то знаю, что-то умею и что?»…
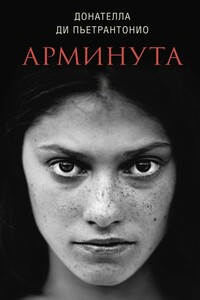
Это история девочки-подростка, в один день потерявшей все… Первые тринадцать лет своей жизни она провела в обеспеченной семье, с любящими мамой и папой — вернее, с людьми, которых считала своими мамой и папой. Однажды ей сообщили, что она должна вернуться в родную семью — переехать из курортного приморского городка в бедный поселок, делить сумрачный тесный дом с сестрой и четырьмя братьями. Дважды брошенная, она не понимает, чем провинилась и кто же ее настоящая мать…