Шолохов: эстетика и мировоззрение [заметки]
1
Безразличен – не значит равнодушен. Эта эстетическая безразличность говорит о художественной свободе писателя, которому все равно, ч т о именно он возьмет для показа из жизни народа, – он в любом материале найдет то главное, основное, что дорого и близко как самому народу, так и ему, Шолохову.
2
Вообще, Толстой уникален этой своей эстетической многомерностью и глубиной, когда он мельком создает ряд новаторских подходов и принципов описания действительности и человека, но потом легко отказывается от них. Скажем, открытый именно им поток сознания в черновых набросках к основным его текстам. Но Толстой отказывается от него не в последнюю очередь потому, что т а к воспроизведенный поток психологической жизни человека не оставляет места авторской оценке и некоей крайне важной для него моральной подсветке. «Диалектика души» совсем другое дело – изображенную таким образом внутреннюю жизнь человека можно сделать критерием оценки возможностей человека к изменениям, «текучести».
3
Укажем на основные работы, посвященные данной проблеме. В критике 30–60-х годов она по существу отсутствовала. За исключением ряда отдельных замечаний, никакого прямого сопоставления, попыток анализа взаимодействия не наблюдается. Первой развернутой работой стала статья П. Бекедина «Шолохов и Достоевский: о преемственности гуманистического пафоса»// Достоевский. Материалы и исследования. (Вып. 5. Л.: Наука, 1983). Серьезной добавкой к ней стала публикация Ю. Дворяшина «Достоевский и Шолохов: диалог о человеке» // Ф. М. Достоевский и современность. Актуальные вопросы изучения творчества. – Сургут, 2002. Наконец, есть отдельная словарная статья о Достоевском в «Шолоховской энциклопедии» (М.: Издательский дом «Синергия», 2012), принадлежащая перу Г. Романовой. Очень существенны параллели между Достоевским и Шолоховым, какие делает в своей книге «Мир прозы Михаила Шолохова. От поэтики к миропониманию» (М.: ИМЛИ РАН, 2005) Светлана Семенова.
4
Замечательно, что он сам об этом заявлял еще в 1937 году: «Существуют писатели, на которых Толстой и Пушкин не влияют… Ей-богу, на меня влияют все хорошие писатели. Каждый по-своему хорош. Вот, например, Чехов. Казалось бы, что общего между мной и Чеховым? Однако и Чехов влияет!» [4, 517]. Здесь пропущено имя Достоевского в прямом указании, но потенциально он также присутствует в «обойме» Шолохова – «влияют все хорошие писатели».
5
Справедливо пишет Светлана Семенова о «странностях» в поведении ряда шолоховских героев: «Тут Шолохов копает такие двусмысленные, извилистые складки психологии некоторых народных типов (к тому же прокатанных сатанинско-противоестественными ситуациями эпохи), что заставляет вспомнить Достоевского…» [3, 32].
6
Конечно, нельзя не вспомнить и Пугачева из «Капитанской дочки», и крестьян из «Дубровского», сжигающих исправника со товарищи в избе, но снимающих забытую кошку с полыхающей крыши, да и Германн из «Пиковой дамы» тут как тут, готовый на в с ё во имя своих целей, не говоря уж об убитом Ленском Евгением Онегиным. Так что все началось с Пушкина, но придал этой теме обостренную идеологическую отчетливость именно Достоевский.
7
Ю. Дворяшин тонко замечает, что у Шолохова меньше всего плачут как раз д е т и [2, 81]. Взрослые – сколько угодно, но вот такой фиксированно-идеологической окраски (как у автора «Братьев Карамазовых») слез детей у Шолохова напрочь нет. Невозможность «высшей гармонии» бытия, если в основе ее пребывает хоть «одна слезинка» ребенка, о которой поведал Достоевский, – для Шолохова такая формула слишком умозрительна. Мы видим в таком очевидном и явном противопоставлении «слезинки ребенка» у Достоевского и отсутствия ее у Шолохова внутреннюю культурно-идеологическую полемику. Ведется она, разумеется, Шолоховым. Если для Достоевского «гармония» достижима, и наличествует она в сознании и мечтах людей как идеал, как цель, какую необходимо преследовать, и равновесность ситуации нарушается несправедливостями э т о г о мира (слезинка ребенка и его страдания как квинэссенция их), то у Шолохова сам вопрос лишен логической и гуманистической оправданности. Гармония бытия разрушена до таких оснований, что сам вопрос о ее воссоздании носит во многом условный, проективный характер – может и не получится вернуться к прошлым устойчивым основаниям жизни. Слезы детей, их страдания – лишь одна из несправедливостей действитель-
8
Нельзя вместе с тем не остановиться на определенной биографической близости между Достоевским и Шолоховым. Известно, что громадное воздействие на Достоевского, на мир его произведений оказала ситуация, по которой за участие в кружке Петрашевского он был приговорен к смертной казни, и только на Семеновском плацу, уже готовясь к смерти, узнает о замене казни каторгой на 4 года. И вот эпизод с Шолоховым, когда молодым продотрядчиком он попадает в руки Махно и также находится под угрозой смерти, но его отпускает атаман, пожалев молодую жизнь. Мы понимаем, что такая параллель чрезвычайно условна и не должна быть понята, как прямое сопоставление с м е р т н ы х ситуаций, в которых находились и один и другой, но и у Шолохова эта близость смерти получила свое отражение на страницах его текстов.
9
Одно из самых «свирепых» наблюдений Шолохова – смерть командира «отряда карательных войск» (!) Лихачева: «В семи верстах от Вешенской, в песчаных, сурово насупленных бурунах его зверски зарубили конвойные. Живому выкололи ему глаза, отрубили руки, уши, нос, искрестили шашками лицо. Расстегнули штаны и надругались, испоганили большое, мужественное, красивое тело. Надругались над кровоточащим обрубком, а потом один из конвойных наступил на хлипко дрожащую грудь, на поверженное навзничь тело и одним ударом наискось отсек голову» (Михаил Шолохов. Тихий Дон. В двух томах. – М.: Художественная литература, 1968. Т. 2. – С. 172. В дальнейшем цитаты из «Тихого Дона» в этой главе будут приводиться по этому изданию с указанием тома и страницы – Е. К.). Вопрос даже не в том, что Шолохов превышает планку эстетически возможного. До него в русской литературе не было изображения зверств и смерти людей, подобно этому (а таких мест у него немало). Ни Бабель, ни Артем Веселый, ни Вс. Иванов, ни кто-либо еще из литературных собратьев, писавших об этих же событиях, не дают таких прямых, беспощадных, нечеловечески суровых описаний подобных ситуаций. Брутальность реализма Шолохова не может не поражать, – но с точки зрения литературной традиции одним из предшественников по открытию подобной жестокости в человеке является именно Достоевский, распатронивший душу человека до самых ее краев и открывшей в ней, душе, такие места, куда лучше не заглядывать. Конечно, казачки, рубившие Лихачева, не читали Достоевского и его типажами не являются… Вот и открылась бездна в человецах, о который писал писатель-пророк, и показать ее в прямом виде выпало на долю донского писателя.
10
Вот пример из «Тихого Дона». Монолог Бунчука перед Анной вполне мог бы принадлежать кому-либо из героев «Бесов»: «Истреблять человеческую пакость – грязное дело. Расстреливать, видишь ли, вредно для здоровья и души… На грязную работу идут либо дураки и звери, либо фанатики. Так, что ли? Всем хочется ходить в цветущем саду, но ведь – черт их побери! – прежде, чем садить цветики и деревца, надо грязь счистить! Удобрить надо! Руки надо измазать!.. Грязь надо уничтожить, а этим делом брезгают!… Тут я вижу, ощутимо чувствую, что приношу пользу! Сгребаю нечисть! Удобряю землю, чтоб тучней была! Плодовитей! Когда-нибудь по ней будут ходить счастливые люди… Может, сын мой будет ходить…» [1, 620]. Это безусловно достоевская проблематика – можно ли оправдать будущую и счастливую жизнью смертью многих людей, даже не одного? К тому же и ребенок тут в образе сына просвечивает в качестве аллюзии из Достоевского.
11
Из воспоминаний З. А.Трубецкой: «Достоевский говорил быстро, волнуясь и сбиваясь… Самый ужасный, самый страшный грех – изнасиловать ребенка. Отнять жизнь – это ужасно, говорил Достоевский, но отнять веру в красоту любви – еще более страшное преступление. (Выделено нами – Е. К.) И Достоевский рассказал эпизод из своего детства. Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, рассказывал Достоевский, где мой отец был врачом, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий, грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: «Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!» И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, рассказывал Достоевский, меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспомнание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в «Бесах» [3, 117].
12
Вот еще один эпизод «Тихого Дона», имеющий прямой окрас этой темы: «Григорий тронул коня к плотине. В промоине лежала убитая женщина. Лицо ее было накрыто подолом синей юбки. Полные белые ноги с загорелыми икрами и с ямочками на коленях были бесстыдно и страшно раздвинуты. Левая рука подвернута под спину. Григорий торопливо спешился, снял фуражку, нагнулся и поправил на убитой юбку. Смуглое молодое лицо было красиво и после смерти. Под страдальчески изогнутыми черными бровями тускло мерцали полузакрытые глаза. В оскале мягко очерченного рта перламутром блестели стиснутые плотные зубы. Тонкая прядь волос прикрывала прижатую к траве щеку. И по этой щеке, на которую смерть уже кинула шафранно-желтые блеклые тени, ползали суетливые муравьи. – Какую красоту загубили сукины сыны! – вполголоса сказал Прохор» [2, 423].
13
Вот деталь в описании свадьбы Григория и Натальи: «Красные лица. Мутные во хмелю, похабные взгляды и улыбки. Рты, смачно жующие, роняющие на расшитые скатерти пьяную слюну» [1, 105]. Вот Григорий, кинувшись защищать Франю от насильников, потом с «звериным любопытством» наблюдает, как бедная девушка приходит в себя. Вот Половцев убивает Хопрова и его жену: «Его локти скользят по зыбким, податливо мягким грудям женщины, под ним упруго вгибается ее грудная клетка. Он ощущает тепло ее сильного, бьющегося в попытках освободиться тела, стремительный, как у пойманной птицы, стук сердца. В нем внезапно и только на миг вспыхивает острое, как ожог, желание…» [5, 66-67] И таких деталей у Шолохова немало. Ему как бы недостаточно дать картину с одной точки зрения, он обнаруживает рядом и другую, совершенно неожиданную, связанную какими-то нитями с миром Достоевского.
14
«Утратилось равновесие между человеком и природой, между жизнью и искусством, между наукой и музыкой, между цивилизацией и культурой – то равновесие, которым жило и дышало великое движение гуманизма», – так об этом писал великий поэт [1, 334]. Существенно также замечание, сделанное Л. Долгополовым: «Человек рубежа веков воспринимал и свое время, и себя самого как бы в двух планах – и как некий «итог», и как некое «начало». Он ощутил себя на грани эпох…» [2, 14]
15
Заметим для читателя, который смотрит данный текст «по диагонали», что несколько выше это понятие применительно к творчеству М. Шолохова было проанализировано в одной из глав настоящей книги.
16
Автор понимает «задержанность» не в аксиологическом, оценочном смысле, а как констатацию иной стадиальности русского социума и русской культуры, разной продолжительности этих стадий, по сравнению с имеющи-
17
Теперь уже, задним числом, не перестаешь диву даваться: как это могла пропустить бдительная цензура?! В нем, этом вопросе Щукаря, спрятаны и вопросы, и ответы по всей социально-психологической проблематике истории России советского периода.
18
Нельзя не признать, что более откровенного и снижающего отношения к официальной идеологии во всей русской советской литературе мы не найдем. Где-то рядом проглядывает Иван Денисович А. Солженицына, но уже лишенный слова, молчаливо сопротивляющийся вывернутой наизнанку жизни.
19
Собственно, широкое обращение писателей к юмористическим и сатирическим жанрам в советской литературе 20-х годов и объясняется этим: весело провожалось уходящее общество (и люди) и приветствовалось новое. Правда, этот процесс быстро закончился, как только обнаружилось реальное содержание текущей действительности. Тут уж было не до смеха.
20
Понятное дело, что подобное словосочетание «современное литературоведение» в эпоху не просто «постмодернизма», а «пост-постмодернизма» звучит несколько архаично. Достаточно открыть книгу уважаемого исследователя языка и литературы А. Жолковского («Осторожно, треножник!» [М., 2010], чтобы в аннотации прочесть, что это книга «статей, эссе, виньеток и других опытов в прозе». Такое жанровое высвобождение не может не радовать, но в рамках своего исследования, основной массив которого создавался на рубеже веков, автор склонен придерживаться старомодной терминологии, рассчитывая отчего-то на вхождение в традицию более древнюю, чем нынешняя «виньеточная».
21
Это рабочее определение (мегацивилизация) предполагает объединение сходных «простых» цивилизаций, совпадающих по истории становления, набору основных ментальных и культурных ценностей (ЕС, США и Канада, Латинская Америка). Протоцивилизация представляет собой изначальную оригинальность и неповторимость по всему спектру цивилизационных признаков; при этом она может оказывать сильнейшее влияние на своих соседей, на их развитие, ментальность и культуру. Это такие образования, как США, Индия, Китай, Япония, Россия. Понятно, что такая терминологическая дробность носит условный характер и используется автором для удобства проводимого анализа.
22
Об этом см. наши книги: Понять Россию. Книга о свойствах русского ума (СПб., 2016) и Русская литература в судьбах России (СПб., 2019), в которых подробно рассматриваются вопросы эпистемологической системы русского языка и особенности религиозного сознания (православия) как части русской культуры.
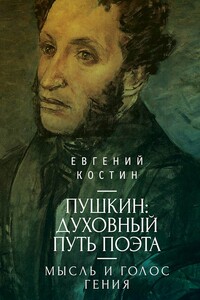
Новая книга известного слависта, профессора Евгения Костина из Вильнюса, посвящена творчеству А. С. Пушкина: анализу писем поэта, литературно-критических статей, исторических заметок, дневниковых записей Пушкина. Широко представленные выдержки из писем и публицистических работ сопровождаются комментариями автора, уточнениями обстоятельств написания и отношений с адресатами.

В новой книге известного слависта, профессора Евгения Костина из Вильнюса исследуются малоизученные стороны эстетики А. С. Пушкина, становление его исторических, философских взглядов, особенности религиозного сознания, своеобразие художественного хронотопа, смысл полемики с П. Я. Чаадаевым об историческом пути России, его место в развитии русской культуры и продолжающееся влияние на жизнь современного российского общества.
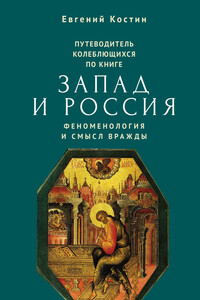
В настоящем издании представлены основные идеи и концепции, изложенные в фундаментальном труде известного слависта, философа и культуролога Е. Костина «Запад и Россия. Феноменология и смысл вражды» (СПб.: Алетейя, 2021). Автор предлагает опыт путеводителя, или синопсиса, в котором разнообразные подходы и теоретические положения почти 1000-страничной работы сведены к ряду ключевых тезисов и утверждений. Перед читателем предстает сокращенный «сценарий» книги, воссоздающий содержание и главные смыслы «Запада и России» без учета многообразных исторических, историко-культурных, философских нюансов и перечня сопутствующей аргументации. Книга может заинтересовать читателя, погруженного в проблематику становления и развития русской цивилизации, но считающего избыточным скрупулезное научное обоснование выдвигаемых тезисов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборнике статей отечественного филолога и политолога Вадима Цымбурского представлены «интеллектуальные расследования» ученого по отдельным вопросам российской геополитики и хронополитики; несколько развернутых рецензий на современные труды в этих областях знания; цикл работ, посвященных понятию суверенитета в российском и мировом политическом дискурсе; набросок собственной теории рационального поведения и очерк исторической поэтики в контексте филологической теории драмы. Сборник открывает обширное авторское введение: в нем ученый подводит итог всей своей деятельности в сфере теоретической политологии, которой Вадим Цымбурский, один из виднейших отечественных филологов-классиков, крупнейший в России специалист по гомеровскому эпосу, посвятил последние двадцать лет своей жизни и в которой он оставил свой яркий след.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ж.-П. Вернан - известный антиковед, в своей работе пытается доступно изложить происхождение греческой мысли и показать ее особенности. Основная мысль Вернана заключается в следующем. Существует тесная связь между нововведениями, внесенными первыми ионийскими философами VI в. до н. э. в само мышление, а именно: реалистический характер идеи космического порядка, основанный на законе уравновешенного соотношения между конститутивными элементами мира, и геометрическая интерпретация реальности,— с одной стороны, и изменениями в общественной жизни, политических отношениях и духовных структурах, которые повлекла за собой организация полиса,— с другой.
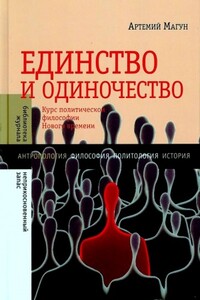
Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.