Шлиссельбуржцы - [2]
…Страшная жертва самосожжения Грачевского, горло Софьи Гинцбург, перерезанное осколком стакана, и тому подобные ужасы – ликвидация бойцов – героический расчет с настоящим и дань прошлому. Но Панкратов, превращающий себя из простого грамотного рабочего в разносторонне образованного человека с знанием математики и иностранных языков, но юноши, вошедшие в Шлиссельбург, не окончив своего университетского образования, а вышедшие из него европейскими учеными, – это уже дань будущему и твердое на него упование. То похороны, а это – крестины и школа. И там, где возможны такие дни, где горят подобные упования, есть ли основание и возможность говорить о каком-то духовном отупении и нравственном банкротстве? Шлиссельбург рабочих перековывал в интеллигентов в лучшем смысле этого слова, а интеллигентов обучал быть рабочими. Когда встретитесь с кем-либо из шлиссельбуржцев, поговорите с ним – и изумитесь: чего эти люди, там, в своем «духовном оскоплении», не изучили, чего они не знают, чего они не умеют делать!
Я имею честь лично знать нескольких шлиссельбуржцев, и чрез них знаю всю эту многострадальную группу, причем иных из незнакомых, по большему к ним интересу, может быть, знаю больше и лучше, чем иных, которых знаю лично лишь слегка и немного. Читал я едва ли не все, напечатанное самими шлиссельбуржцами и посторонними о шлиссельбуржцах. И позволю себе выразить, что в результате всех этих впечатлений осталось у меня маленькое недоумение: «Зачем в шлиссельбургских воспоминаниях авторы так часто прибегают к обобщающим местоимениям: „мы“, „нас“, „нам“, „нами“, а в статьях – „они“, „их“, „им“, „ими“?»
Это создает иллюзию, будто в каменном панцире Шлиссельбурга жил и совместно действовал какой-то однородный и стройный, сознательно и преднамеренно сложившийся коллектив, в котором индивидуальности сливались, как ноты в аккорд. На самом деле вряд ли это было так, и даже не могло быть так, потому что теперь на свободе, каждый, по крайней мере, из мне известных шлиссельбуржцев, являет так много личности, настолько ярко окрашенную индивидуальность, что подогнать их под общую корпоративную мерку – «мы, шлиссельбуржцы», – возможно разве посредством прокрустова ложа. Все глубоко интересны: один больше, другой меньше, соответственно обилию и силе талантов, но каждый – сам по себе. Каждый – в высшей степени «я», а не «мы». Если шлиссельбуржцы – корпорация, то без статуса не то что письменного ни даже устного, но хотя бы подразумеваемого, – корпорация долгого безвыходного сожительства разнородных людей из одного лагеря, под одною крышею и в одних стенах, в течение долгих лет обтершего между ними острые углы разниц в возрасте, образовании, прежнем общественном положении и т. д., но отнюдь не сделавшего их дисциплинарно тождественными между собою, ни даже не внесшего в их среду ответственности круговой поруки. Поэтому, когда мемуарист-шлиссельбуржец говорит, положим: «Мы начали такого-то числа сажать капусту», – я это «мы» приемлю безусловно. Но когда он говорит «мы», связывая его с актами религиозной совести, с ответами на характер тюремного режима или, наконец, просто с развитием психологических мотивов, сдается мне, что было бы лучше, если бы во всех подобных случаях речь от «мы» уступала место речи от «я»[1]
Потому что, – вот лежит передо мною фельетон г. Л. Вой-толовского с цитатами из М. Фроленко и М. Новорусского, что «после выхода на свободу многие жаловались, что утратился как-то безо всякой причины самый интерес к жизни», а третий шлиссельбуржец подчеркнул этих «многих» синим карандашом и сердитым вопросительным знаком. Г. Войтоловскому как доказывателю духовного отупения шлиссельбуржцев вне жизни в коллективе на руку показание М. Фроленко, что в первое время по освобождении «между вновь открывшимся миром и воскресающим к жизни узником стояла какая-то глухая стена. Чувствовалось не только неумение воспользоваться предоставленной свободой, а какое-то нудное безразличие и к ней, и к людям; и мысль, привыкшая столько лет непрерывно думать о смерти, как единственной избавительнице, точно не замечала жизни или сторонилась от нее, как от чего-то далекого и чужого».
А карандаш того же шлиссельбуржца приписывает, что тому виною «полиция, а не свое безучастие». И действительно, кто знает первые дни по выходе на «свободу» Веры Фигнер, Германа Лопатина и т. д., тому известно, что до тех пор, пока они не выехали за границу, – они, собственно говоря, лишь променяли Шлиссельбург каменный на Шлиссельбург живой – со стенами из соглядатайствующих глаз и доносящих языков…
…В подобных условиях, какую жизнерадостность ни развила бы в человеке свобода, может ли ее энергия перейти в действие? Сколько бы ее ни было, она осуждена на статическое, «скрытое» состояние, вроде скрытой теплоты без разрешения в динамику.
…А будто этого разрешения в динамику самим шлиссельбуржцам и не требовалось, – глубокая неправда. Напрасно г. Л. Войтоловский обобщает для шлиссельбуржцев слова М. Фроленко, что «боязнь толпы заставляла еще долго и мучительно избегать общения с живыми людьми». «Не всех!»

Однажды в полицейский участок является, точнее врывается, как буря, необыкновенно красивая девушка вполне приличного вида. Дворянка, выпускница одной из лучших петербургских гимназий, дочь надворного советника Марья Лусьева неожиданно заявляет, что она… тайная проститутка, и требует выдать ей желтый билет…..Самый нашумевший роман Александра Амфитеатрова, роман-исследование, рассказывающий «без лживства, лукавства и вежливства» о проституции в верхних эшелонах русской власти, власти давно погрязшей в безнравственности, лжи и подлости…
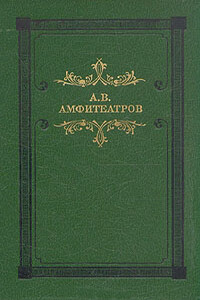
Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.Из раздела «Италия».

В Евангелие от Марка написано: «И спросил его (Иисус): как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, ибо нас много» (Марк 5: 9). Сатана, Вельзевул, Люцифер… — дьявол многолик, и борьба с ним ведется на протяжении всего существования рода человеческого. Очередную попытку проследить эволюцию образа черта в религиозном, мифологическом, философском, культурно-историческом пространстве предпринял в 1911 году известный русский прозаик, драматург, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик Александр Амфитеатров (1862–1938) в своем трактате «Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков».
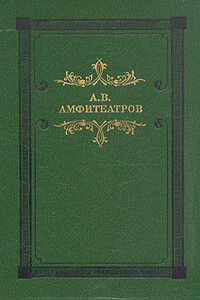
Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.
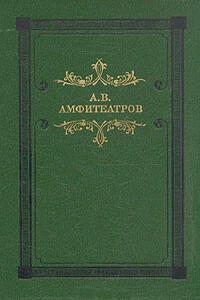
Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.Из раздела «Русь».

«Единственный знакомый мне здесь, в Италии, японец говорит и пишет по русски не хуже многих кровных русских. Человек высоко образованный, по профессии, как подобает японцу в Европе, инженер-наблюдатель, а по натуре, тоже как европеизированному японцу полагается, эстет. Большой любитель, даже знаток русской литературы и восторженный обожатель Пушкина. Превозносить «Солнце русской поэзии» едва ли не выше всех поэтических солнц, когда-либо где-либо светивших миру…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Предсвяточное событие Белокаменной – смерть Захарьина. Когда я увидел это неожиданное известие в „Московских ведомостях“, я, право, не поверил своим глазам и даже протер их:– Как же это? Захарьин, сам Захарьин – и вдруг умер?!.».

«Прочитал в «Сегодня» о кончине М. В. Ватсон. Откровенно сказать, я уже лет семь почитал ее отошедшею из мира сего в пребывание «со духи праведны». В газетах – ошибкою – было, и опровержений не последовало. А было даже не о смерти, но уже о каком-то безобразии, якобы учиненном беспризорными или иными подсоветскими хулиганами над ее могилою на петербургском Волковом кладбище. Помню, я тогда еще подивился, как же это вышло, что мы, зарубежники, проморгали смерть такой замечательной, единственной в своем роде женщины и узнаем о ней только из заметки о кладбищенских непорядках?..».

«К концу века смерть с особым усердием выбирает из строя живых тех людей века, которые были для него особенно характерны. XIX век был веком националистических возрождений, „народничества“ по преимуществу. Я не знаю, передаст ли XX век XXI народнические заветы, идеалы, убеждения хотя бы в треть той огромной целости, с какою господствовали они в наше время. История неумолима. Легко, быть может, что, сто лет спустя, и мы, русские, с необычайною нашею способностью усвоения соседних культур, будем стоять у того же исторического предела, по которому прошли теперь государства Запада.

«„Душа Армии“ ген П. Н. Краснова, с обширным предисловием г. Н. Н. Головина, представляет собой опыт введения в почти что новую и очень молодую еще науку „Военной психологии“. Военно-педагогическое значение этой книги подлежит критике военных специалистов, к которым себя отнести я никак не могу. Думаю, однако, что военно-критическая задача уже исчерпывающе выполнена двадцатью пятью страницами блестящего головинского предисловия. Дальнейшая критика, может быть, прибавит какие-нибудь замечания и соображения по технике военного искусства, темной для нас, штатских профанов, но глубокое психологическое содержание труда П. Н. Краснова освещено ген Головиным полно, ярко и проникновенно…».