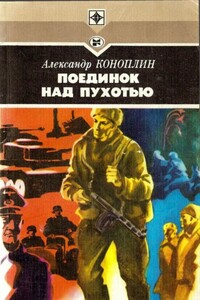— Да иди ты!.. — кровь бросилась мне в лицо. Неужели теперь всю жизнь всякий проходимец будет с ходу узнавать во мне зэка? Что же за печать шлепает каждому из нас проклятая зона? — Тебе-то что? Ты же не опер!
Получив отпор, он слегка смутился.
— Верно, не опер. Геолог. Начальник партии и, между прочим, член бюро! — он свирепо взглянул на меня, но затем его взгляд смягчился, он снова достал флягу, сделал глоток и неожиданно протянул ее мне. — Не обижайся. Бдительность — прежде всего. А это — «Армянский». Высший сорт.
Я молча отодвинул его руку. Девушка приободрилась: я не из компании нахала… Подумав, она пересела от геолога ко мне.
— Ну вот, — он разочарованно поджал губы, — даже пошутить нельзя.
— Шутить надо осторожно, — назидательно проговорила она, — чтобы не обидеть человека. А вы так бесцеремонно… Может, этот молодой человек вовсе не из заключения. Правда, ведь? — она с надеждой взглянула на меня.
— Да зэк он, зэк, — презрительно повторил геолог, — только, похоже, не беглый, — он снова отхлебнул. — А вы, по-видимому, едете на место работы? С похвальной грамотой закончено Канское педагогическое училище, и получено назначение в Тьмутаракань…
— А хотя бы и так! — с вызовом ответила девушка. — Все равно вы не имеете права вмешиваться.
— В вашу личную жизнь? Да я и не вмешиваюсь, просто подбираю кадры для своей партии. В настоящий момент мне нужен радист и повариха. Вы умеете готовить? Кстати, как вас звать?
— Ниной, — машинально ответила девушка, завороженно глядя на геолога.
— Отлично, Ниночка, вы мне подходите. Меня зовут Сурен Георгиевич, — двумя пальцами он поправил прядь волос на ее лбу, — так лучше. Люблю красоту и аккуратность.
Нина вспыхнула и… пересела к нему. Скорей всего, до этого ей никто не говорил о красоте, ибо трудно придумать более нелепое личико: круглое, по-детски одутловатое, усеянное крупными веснушками. Брови и ресницы у нее были неотличимы по цвету от кожи, глаза бледно-голубые с крошечным зрачком-точкой.
Но геолог ее уже оставил и обратился ко мне.
— Пойдешь ко мне, парень? Не пожалеешь, честно говорю.
— Я беглый.
— Получишь профессию, будешь зарабатывать больше доктора наук, женишься. Приданое — шестимесячный оклад, трехмесячный отпуск. Ты же умный, я вижу… Решай.
— Вы что, колдун? — спросила Нина.
— Колдун? Пожалуй… Приоденешься как следует, на книжку положишь.
— Я вор-рецидивист, у меня семь судимостей.
— Судимости снимем. Если согласен, сойдешь с нами в Красноярске, в Управлении оформим документы, переночуем в гостинице в номере с ванной, а завтра — в поле. В Саяны.
— Да будет вам! — мне стало скучно. — Сыт я вашими Саянами. Домой хочу.
— Значит, не по пути, — сказал он.
— А я умею готовить! — вдруг сказала Нина.
— Да? Ты что, девочка, в самом деле захотела в тайгу?
— Да. Романтика — моя страсть.
— Э, слушай! — вдруг рассердился он. — Нельзя же так… Надо маму спросить, самой подумать.
— Но я уже взрослая! — настаивала она. — И потом, мне хочется испытать все.
— Да пойми ты! — он наконец обернулся к ней. — Мне нужны крепкие парни. Такие, как он. Но он не хочет. Дурак. Пять человек надо. А у меня всего один, да и тот пальцем деланный. А работа адовая, без выходных и отпусков, круглый год без крыши над головой, под дождем и снегом, броски по горам…
— Странная агитация, — сказал я.
— Э, слушай! Это же не для тебя!
— А для меня?
— Каждые два года — отпуск на три месяца. Хочешь, в профилакторий под Красноярск, хочешь — к морю. И все это — с полными карманами. Все девушки твои. Ну, как агитация?
— Учиться хочу, Сурен Георгиевич, не обижайтесь. «Голубая мечта», как сказал один человек. Закончил девять классов, потом сразу на фронт. Потом служба, а потом лагерь. Еще у меня есть дело, которое надо продолжить.
— Э! Какое у тебя может быть дело? Ты же прямо с нар!
— Повесть, Сурен Георгиевич. А может, роман. Пока не знаю.
— Какой роман? Ты что, сам пишешь?
Я кивнул. Он оглядел меня от стриженой макушки до лагерных ботинок.
— Слушай, сколько тебе лет?
— Двадцать восемь. Скоро исполнится…
— Двадцать восемь… Романы надо начинать писать, когда тебе, по крайней мере, сорок. Когда есть опыт и сил еще много. Двадцать восемь! Стихи пишут в эти годы! И только о любви, потому что ни о чем другом думать не могут. И ничего не знают в жизни…
— Чарльз Диккенс написал первый роман в двадцать пять, — напомнил я.
— Хорошо, — согласился он, — если напечатают, пришли почитать. Как называется?
— «Соловей, соловей, пташечка».
— Про птичек? Не присылай. Некогда читать, работа.
— Не пришлю.
Мы замолчали. Но тут подала голос наша попутчица.
— Вы что же, передумали, товарищ геолог? Зачем тогда звали? Я люблю путешествовать. И потом, я комсомолка! Вам что, дороже бывший заключенный? Вы ему больше доверяете?
— Путешествия, романтика… — Сурен Георгиевич потер ладонью колено. — Вот она, романтика: ревматизм! Говорят, на всю жизнь. А звал, потому что — заносит… Как вырвусь из тайги да увижу такой персик, так и заносит… Я еще не старый. Но ты не в моем вкусе, девочка. Поезжай к маме. Моя работа не по тебе.
— Но вы же меня совсем не знаете! — пошла в наступление Нина. — Я спортсменка, мой папа военный, и, в конце концов, вас могут заставить!