Шахта - [72]
Обнялись. От Григория шибануло степью, запахом сбруи, конским потом — такими запахами, какими на родину только и заманивать.
— Два года? Ну, точно — два года не был! Все над нами пролетаете, собаки, все мимо на свои курорты, — срывистым от радости голосом частил Григорий. — Пасешь, а они зудят, зудят, челноки-то белые. Вот, думаешь, может, Мишка на нем полетел... Видно нас оттуда? — спросил наивно и сам ответил: — Где нас увидишь, букашек. Страшно небось на такой верхотуре?
Зашли в дом, а следом Анна с мужем и Иван с женой. С сумками — еды понавезли, не понадеялись.
— Ну, здравствуй, братка... — Анна сдержанно поздоровалась, словно вчера виделись, а с Валентиной — и того холодней. — Мойте руки да за стол, — распорядилась, — а то уже зориться начинает. Зори-то сейчас целуются.
Стала вынимать посуду из шкафа, по столу расставлять. Стройная, длинноногая — вся «свешневская», только характер какой-то чужой: строгости больше, чем у всех мужиков Свешневых.
— Ты, Анютка, с нами как с пацанами в своей школе обходишься. А под моим командованием тоже триста голов. Не какой-нибудь там пастух, а скотник-оператор. Поняла? Кнопки жму — в одну сторону телята выскакивают, в другую — молоко рекой льется.
— Будет, нашел время зубы мыть, — зыркнула на него Анна.
А от керосиновой лампы свет такой, что и сравнить не с чем, до того отвыкли: тускло-красный, лица едва различимы. А когда-то, после коптилки, вот эту же лампу зажгли, так глаза позакрывали — ослепила яркость. Рядом с керосинкой над столом висел электрический шнур с лампочкой, и Михаилу показалось, что все, что с ним сейчас происходит, происходит невсерьез, какая-то нелепая случайность вернула его в детство. Тени на стенах от сидящих за столом, тот же длинный стол, тот же посудный шкаф и стены... Ложку бы выщербатить зубами, да так, чтоб отец не заметил! Или потихоньку толкнуть кого из братьев в бок: гляди, мол, что за чудо с потолка спускается! Тот пока лупит глаза на «чудо», а у него хлеба отщипнуть или из его глиняной чашки погуще ложкой вычерпнуть...
— Так что же с мамой-то будем?.. — напомнила сестра о главном. — Врач вчера выговаривал. Сколько, говорит, можно тянуть...
— Эх! Что делать, — мотнул головой Григорий. — Тыщу раз говорил: забрать домой да травой поить. Не-ет, пичкают там этой химией! Таблетками-то и молодого можно угробить. А чердак весь чебрецом завешан да кровохлебкой...
— Погоди, Гриша, не горячись, — попросил Иван. — Лечилась же она травами. Сами же поили ее. У мамы это... — Иван покашлял, подвигался на скамейке.
Григорий забегал глазами по лицам родных.
— А зачем тогда резать? — возразил, испуганно оглядывая застолье, словно кто-то настаивал на операции.
— Если хотя бы один против ста, все равно нужно оперировать — тихо, вроде стесняясь старших, сказал Петр. — А потом, чего мы решим? Слово-то за мамой. Так ведь, Миша?
Все враз поглядели на Михаила. Старший, мол, за тобой и слово последнее, говорили глаза. Но он испуганно, как пугался до потери речи, когда мальчишкой ловили за ухо в чужом огороде, оглядел застолье: «Да что же я? Как я могу?» — И с внезапным облегчением понял, что он не самый старший в семье: здесь же отец сидит. Вот он, такой родной, мудрый отец. Отец жив, значит, и мы еще дети, и есть плечи поперед тебя, которые, когда будет нужда, прикроют, и голова, которая за тебя обдумает и ответит. Здесь, в родном доме, Михаил испытал сейчас это облегчающее чувство слабости. Оно, это чувство, было давно-давно им забыто-перезабыто, ибо там, в его совсем нездешней жизни, он сам отец и ответчик и за себя и за других.
— Ясно, что слово за мамой, — согласился Михаил. — Но и нам надо тоже на что-то решиться. Папа, что ты скажешь?
— Ничего я, дети, не скажу. — Отец сидел, опустив маленькое, заклинившееся к подбородку лицо, и тени от кустиков бровей прятали его глаза. — Уморился я жить, и мать уморилась.
— Чего ты говоришь зря! — обиделась Анна. — Отчего теперь умариваться? Живи да радуйся. Вот хоть сейчас к нам жить поедем. Пальцем шевельнуть не дадим... Мать выздоровеет, сюда больше не пустим.
— Не выздоровеет она, глупая ты, хоть и ученая. Мать умрет, и я за ней следом. Старый ворон даром не каркнет, не бойсь.
— Ты же старый солдат, папа...
— Раньше срока-то чего...
— Вот и поговори с ним...
— Да пришел он, срок-то. Прише-ел! — затряс отец хохолком волос. — К себе она заберет, — искоса взглянул он на Анну. — А Петрака заберете? А Ольгу с Полькой? А-а, то-то! А хошь бы и забрали — это что ж, в скворешнике наверху сидеть? Нетушки. Всю жизнь ногами на земле стоял, а теперь в скворешник? Тело в таз с горячей водой, а душу куда? Вот он и подвелся, срок-то, сам собой.
— По-твоему, папа, мы должны вернуться сюда? — Иван вздохнул, поскреб в затылке. — Опять к этим избам, к печкам этим...
— Да не надо, чего без толку буровишь? По-нашему, все кончилось, а по-вашему, слава богу, началось. Мы ж не лиходеи своим детям, чтоб желать вам, как мы жили. Для того ли из кожи лезли, учили вас? Вот и живите на здоровье, а нам этого хватит, — повел отец рукой. — Старики-то, они только языками молоть, а сами отсюда не хотят, хоть того же Трофима возьми...
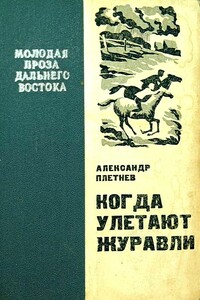
Александр Никитич Плетнев родился в 1933 году в сибирской деревне Трудовая Новосибирской области тринадцатым в семье. До призыва в армию был рабочим совхоза в деревне Межозерье. После демобилизации остался в Приморье и двадцать лет проработал на шахте «Дальневосточная» в городе Артеме. Там же окончил вечернюю школу.Произведения А. Плетнева начали печататься в 1968 году. В 1973 году во Владивостоке вышла его первая книга — «Чтоб жил и помнил». По рекомендации В. Астафьева, Е. Носова и В. Распутина его приняли в Союз писателей СССР, а в 1975 году направили учиться на Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького, которые он успешно окончил.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.