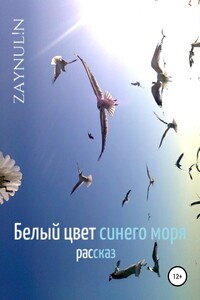Сезоны - [5]
Около шести утра Громов снова сидит за столом и беспомощно смотрит на чистый лист.
Он в который раз листает первый том Маяковского, как будто именно здесь хочет найти талисман, который выручил бы его, направил бы бесформенный рой фактов (да, только фактов! — того, что было) в единственно верное русло, которое придало бы им законченность, чтобы любой человек, прочитав его записи, смог бы видеть именно то, что знал и чувствовал он, а если и нет, то хотя бы снизошел к его чувствам и не опошлил их.
Как это назвать, что случилось с ним тем утром? Просветлением? Озарением? Он вздрогнул, когда ЭТО пришло к нему. Еще были сомнения, еще он думал, что кощунствует. Но рука уже твердо и крупно выводит печатными буквами в левой половине листа: «Тема», а ниже с красной строки размашистой прописью: «Я — человек. Этим и интересен. Об этом и пишу. Пишу то, что отстоялось в памяти».
Да-да-да-да! Да, он так решил! Так!.. И, подчинившись жесткой конструкции автобиографии родного ему поэта и ее заразительному синкопическому ритму, Громов начинает писать первые свои записки, назвав их: «ТО, ЧТО ОТСТОЯЛОСЬ В ПАМЯТИ».
Я — человек. Этим и интересен. Об этом и пишу. Пишу то, что отстоялось в памяти. Другое — почему я себя человеком считаю.
Фамилия — Громов: очевидно, когда-то, кого-то из предков моих убило молнией. А думали, что громом. Знаю свою родословную только до дедок и бабок. Громов-дед умер от горячки, когда отцу было полгода. Оба деда пахали землю: один — на Брянщине, другой — в Новгородской губернии.
Вот таким было начало. Не стоило, наверное, так бесхитростно, так открыто подражать. А в «Теме» так почти слово в слово. Только и разницы — один пишет: «Я — поэт», другой — «Я — человек»; один бьет на отстоявшееся словом, другой — на отстоявшееся в памяти. Подражать нехорошо. Подражать предосудительно. Только живопись да скульптура признают копиистов как мастеров своего дела. А в других искусствах подражать — это плагиат. Плагиат! «В духе», «в стиле» — это еще куда ни шло. Даже Пушкин, даже Лермонтов другой раз писали в духе и стиле кого-то.
Но взгляните: одна ли жизненная позиция двух пишущих? «Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу», «Я — человек. Этим и интересен. Об этом и пишу».
Слова чуть-чуть отличаются, а разница огромная! Слова только чуть-чуть отличаются, а интонация иная, настроение, смысл другой. Да, это и есть русский язык. Это по-русски! Может быть, повременим уничтожать молодого автора? Не будем выдавать ему «белый билет»? Посмотрим, как дальше дело пойдет?
Громов начал набрасывать свои записки, помнится, в четверг утром. Писал он весь день. В пятницу у него тоже была возможность писать, так как отгулы его за полевой сезон, а их было пять дней, не кончились — на работу он должен был выйти с понедельника. Писал он и в субботу, и в воскресенье. Пачка бумаги на двести пятьдесят листов быстро таяла оттого, что каждую вымаранную страницу он старался переписать начисто и, переписывая, снова превращал ее в трудночитаемый черновик. Но ему такое дело нравилось. Он вошел во вкус этой изматывающей, бесконечной и порочно сладкой работы.
В воскресенье вечером он решил, что завтра подаст рапорт начальнику экспедиции и попросит неделю отпуска в счет очередного, мотивируя его всеми правдами и неправдами. Он чувствовал: нельзя ему прерываться, нельзя упускать найденное, нельзя не окончить начатое. Иначе…
Иначе не могло быть.
Отпуск ему дали. Хотя с видимым неудовольствием, но дали. Лев Петрович решил, наверное, что Громов хочет отгулять «на всю катушку» перед тяжелыми временами. И никому на ум не пришло, даже близким друзьям-приятелям, что Паша Громов тот, да не тот, что и уходит он в глубокое подполье (так он всем объявил, чтобы не трогали) не по причине душевной депрессии (так о нем многие думали), а как раз наоборот.
И вот в следующий четверг, уже во втором часу ночи, он окончил свои записки, поставил жирную точку, но через минуту приписал вот это:
В отделе кадров Северо-Восточного геологического управления мне дали направление в Восточную комплексную экспедицию. Я не возражал».
— Я не возражал! — громко повторил Громов, вставая. Он широко и блаженно потянулся, сделал глубокий вздох, потом разом выдохнул и, скрючившись завис над последним листом.
Может быть, еще прибавить что-нибудь эдакое, легонькое, с «клюквочкой»? А то больно уж протокольно: «Я не возражал». Да кто ты такой, чтобы возражать? Салага, неудачник, отщепенец, уголовник, жена бросила»… Все это повторял про себя Громов с каким-то внутренним ликованием, необъяснимым, чистым, раскрепощенным, без оглядки на прошлое, без слез о настоящем и с верой, большой и прекрасной, в будущее.
Простим ему, двадцатидевятилетнему мужчине, юношеский порыв, детский восторг перед собственным творением или лучше позавидуем. Он еще долго не успокоится. Он еще будет стоять на улице под ветром в своем белом с серыми оленями свитере и смотреть в небо. И к нему придут такие вот слова: «Ветер и звезды. Звезды большие и голубые, как кристаллы аквамарина. Светят они пронзительно. Смотреть на них больно. Но не смотреть никак нельзя».
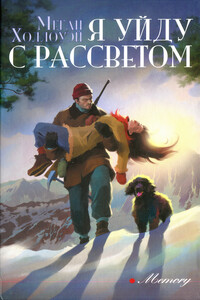
Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.
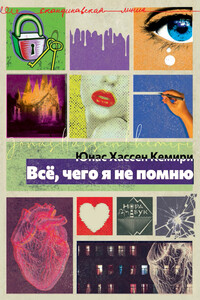
Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.
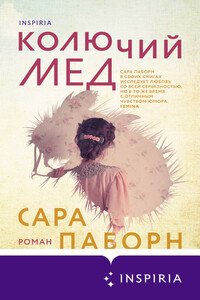
Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.
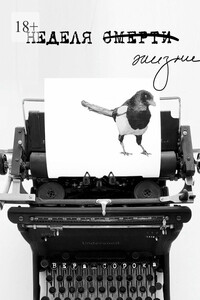
Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.
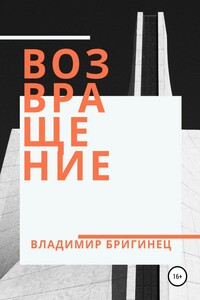
Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
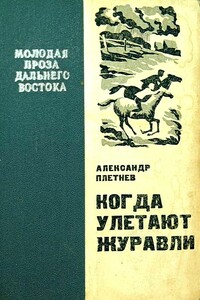
Александр Никитич Плетнев родился в 1933 году в сибирской деревне Трудовая Новосибирской области тринадцатым в семье. До призыва в армию был рабочим совхоза в деревне Межозерье. После демобилизации остался в Приморье и двадцать лет проработал на шахте «Дальневосточная» в городе Артеме. Там же окончил вечернюю школу.Произведения А. Плетнева начали печататься в 1968 году. В 1973 году во Владивостоке вышла его первая книга — «Чтоб жил и помнил». По рекомендации В. Астафьева, Е. Носова и В. Распутина его приняли в Союз писателей СССР, а в 1975 году направили учиться на Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького, которые он успешно окончил.
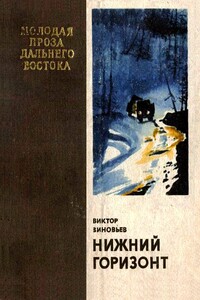
Виктор Григорьевич Зиновьев родился в 1954 году. После окончания уральского государственного университета работал в районной газете Магаданской области, в настоящее время — корреспондент Магаданского областного радио. Автор двух книг — «Теплый ветер с сопок» (Магаданское книжное издательство, 1983 г.) и «Коляй — колымская душа» («Современник», 1986 г.). Участник VIII Всесоюзного совещания молодых писателей.Герои Виктора Зиновьева — рабочие люди, преобразующие суровый Колымский край, каждый со своей судьбой.
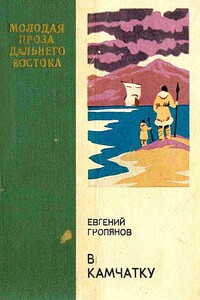
Евгений Валериянович Гропянов родился в 1942 году на Рязанщине. С 1951 года живет на Камчатке. Работал на судоремонтном заводе, в 1966 году закончил Камчатский педагогический институт. С 1968 года — редактор, а затем заведующий Камчатским отделением Дальневосточного книжного издательства.Публиковаться начал с 1963 года в газетах «Камчатская правда», «Камчатский комсомолец». В 1973 году вышла первая книга «Атаман», повесть и рассказы о русских первопроходцах. С тех пор историческая тема стала основной в его творчестве: «За переливы» (1978) и настоящее издание.Евгений Гропянов участник VI Всесоюзного семинара молодых литераторов в Москве, член Союза писателей СССР.
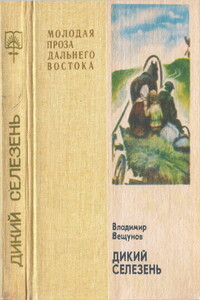
Владимир Вещунов родился в 1945 году. Окончил на Урале художественное училище и педагогический институт.Работал маляром, художником-оформителем, учителем. Живет и трудится во Владивостоке. Печатается с 1980 года, произведения публиковались в литературно-художественных сборниках.Кто не помнит, тот не живет — эта истина определяет содержание прозы Владимира Вещунова. Он достоверен в изображении сурового и вместе с тем доброго послевоенного детства, в раскрытии острых нравственных проблем семьи, сыновнего долга, ответственности человека перед будущим.«Дикий селезень» — первая книга автора.