Серебряный век в Париже. Потерянный рай Александра Алексеева - [4]
Остаётся только недоумевать, почему Алексеев при его зоркости к деталям, при его фантастической памяти, не помнил отца больным, тяжело кашляющим после сильнейшей простуды (он ещё и много курил). Почему ничего не знал о его болезни и к нему приходили мысли об убийстве? И даже точно не назвал город в Германии, где Александр Павлович умер и был похоронен и куда мать всё-таки съездила, уже на кладбище, и откуда приходили открытки в день памяти отца, как он сам пишет. Вот только где его могила?
Дед
Светлана Алексеева-Рокуэлл вспоминала, с каким удовольствием отец, «умевший оживить всё, о чём говорил», рассказывал ей про деда, а её прадеда Павла Ермолаевича Алексеева, героического человека, обладавшего «харизмой и красотой облика». Правда, она предполагала, что в этих рассказах-историях «много мифологии». Тем не менее мы попробуем одну из историй изложить – она полна романтической экзотики и нравилась самому художнику. Он вспоминал её, выступая на французском радио.
«В двадцать лет, – пишет Светлана, – дед отца стал топографом на службе императора Александра Второго. Его первым заданием было составление карты освоенных территорий на юге России». «Для успеха предприятия» он выучил татарский язык, целый год посвятил изучению нравов и обычаев местного населения. А потом «собрал свои блокноты, измерительные инструменты и одежду, сел на прекрасного чёрного жеребца и через огромные, продуваемые ветром степные пространства отправился на юг. Через месяц он наконец увидел вдалеке большие шатры… Когда он к ним приблизился, от шатров отделились двое всадников и, поднимая столб пыли, во весь опор поскакали ему навстречу.
– Кто ты такой? Что тебе надо? – закричал один из них на своём языке.
Павел объяснил, что едет наносить на карту их земли. Всадники проводили его к шатру вождя. Из шатра вышла молодая девушка. В руках она держала металлическое блюдо с рисом, которое преподнесла гостю. Тот, по их обычаю, зачерпнул пригоршню риса и вымыл им лицо. Изумлённая девушка побежала в шатёр, потом пригласила войти. В шатре на горе разноцветных подушек сидел местный вождь. Познакомившись с Павлом, он расцвёл в улыбке и велел принести тёплого козьего молока. Он разрешил гостю снимать карту своих земель, снабдив его едой, и поселил в одном из шатров. В провожатые дал ему свою дочь – ту самую красавицу, что встретила Павла перед шатром. Правда, с условием, что он не увезёт её в Россию.
– Попытаешься забрать её к себе, – тут вождь положил руку на рукоятку своего меча, – не видеть тебе больше России!
Отец обычно изображал, как вождь выхватывает меч из ножен и размахивает им над головой. Как и следовало ожидать, Павел и Тамара полюбили друг друга и под покровом ночи сбежали в Россию».
В Уфе, пишет Светлана, а на самом деле в Оренбурге, они поженились. В конце рассказа отец каждый раз замечал: Тамара любила сидеть, скрестив по-турецки ноги, на маленьком коврике, который когда-то соткала и сумела захватить с собой в Россию. «После того как я впервые услышала эту историю, всегда держала у ног маленький коврик», – заключила она повествование.
Архивный документ с «Послужным списком полковника Павла Ермолаевича Алексеева» свидетельствует: у него было три жены, третьим браком он женат на Прасковье Дмитриевне, дочери коллежского асессора Балабанова, с которой жил в Оренбурге в «благоприобретённом каменном одноэтажном доме». П.Е. Алексеев и его шестеро детей были внесены в дворянские книги Оренбургской губернии. Что ж, может быть, его первой женой и была дочь родовитого татарина (а может быть, башкира), названная в мемуарах Тамарой. Его жизнь, если вчитаться в сухой «Послужной список», полна кипучей деятельности и невероятных событий.
Павел Ермолаевич «происходил из солдатских детей». Он родился в 1818 году и «воспитывался в оренбургском батальоне военных кантонистов». На службу поступил в 16 лет в первую полуроту топографов 3-го класса. В 19 лет стал унтер-офицером. За усердную службу давали ему денежные награды. В 30 лет он – прапорщик с прикомандированием к корпусу топографов при Отдельном Оренбургском корпусе, затем отправлен для устройства чертёжной в корпус топографов на должность исправляющего войскового башкирского землемера. Он участвовал в дальних экспедициях в съёмке киргизских степей, проходил пески Кара-Кума, доходил до Сырдарьи и других среднеазиатских рек, занимался поисками водных и кормовых мест и расстановкой военных колонн на ночлегах и даже захватывал непокорные киргизские аулы и зачинщиков мятежа. А потом, выйдя в отставку, заведовал межевой частью Оренбургского по крестьянским делам присутствия и в 1891 году, как сказано в документе, состоял членом Оренбургского отделения Крестьянского поземельного банка. За отличную и усердную службу награждён орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степени, орденом Святой Анны 3-й степени, орденом Святого Владимира 4-й степени, бронзовой медалью на Владимирской ленте в память войны 1853–1856 годов. Скончался в родном Оренбурге, год смерти нам неизвестен.
Остаётся только пожалеть, что Александр Александрович Алексеев ничего не знал о достойной жизни деда.

Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли «храбрыми в дозволенных пределах», но их произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова — сборник биографических эссе, рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.
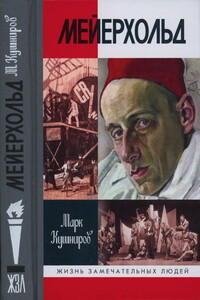
Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.
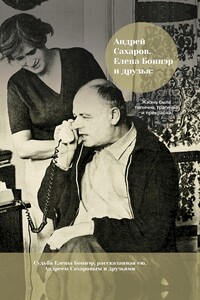
Книга, которую читатель держит в руках, составлена в память о Елене Георгиевне Боннэр, которой принадлежит вынесенная в подзаголовок фраза «жизнь была типична, трагична и прекрасна». Большинство наших сограждан знает Елену Георгиевну как жену академика А. Д. Сахарова, как его соратницу и помощницу. Это и понятно — через слишком большие испытания пришлось им пройти за те 20 лет, что они были вместе. Но судьба Елены Георгиевны выходит за рамки жены и соратницы великого человека. Этому посвящена настоящая книга, состоящая из трех разделов: (I) Биография, рассказанная способом монтажа ее собственных автобиографических текстов и фрагментов «Воспоминаний» А. Д. Сахарова, (II) воспоминания о Е. Г. Боннэр, (III) ряд ключевых документов и несколько статей самой Елены Георгиевны.
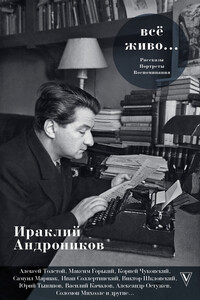
В книгу Ираклия Андроникова «Всё живо…» вошли его неповторимые устные рассказы, поразительно запечатлевшие время. Это истории в лицах, увиденные своими глазами, где автор и рассказчик совместились в одном человеке. Вторая часть книги – штрихи к портретам замечательных людей прошлого века, имена которых – история нашей культуры. И третья – рассказы о Лермонтове, которому Андроников посвятил жизнь. «Колдун, чародей, чудотворец, кудесник, – писал о нем Корней Чуковский. – За всю свою долгую жизнь я не встречал ни одного человека, который был бы хоть отдаленно похож на него.
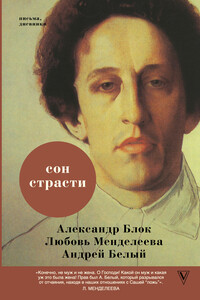
Книга «Сон страсти» повествует об интимных отношениях, связавших в начале прошлого столетия трех замечательных людей России: Александра Блока, Любовь Менделееву-Блок и Андрея Белого. События их сугубо личной, закрытой для других стороны жизни, но поучительной для каждого человека, нам сегодня помогли воссоздать оставленные ими дневники, воспоминания, переписка. Итог этим порой счастливым, порой трагичным переплетениям их судеб подвел Блок: «Люба испортила мне столько лет жизни, замучила меня и довела до того, что я теперь.
