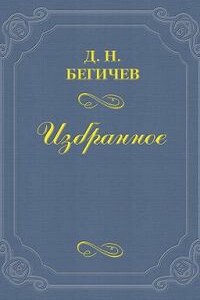Семейство Холмских (Часть третья) - [17]
Софья видѣла, что ей невозможно было оставить сестры. Катерина часто плакала, и предавалась отчаянію, что всѣ средства къ возстановленію прежней, спокойной и счастливой жизни оставались безуспѣшны. Здоровье ея примѣтнымъ образомъ разстроивалось.
Разсудительная Софья проникла, что какая добудь тайная причина особенно тяготитъ Аглаева; замѣтила, что всякій разъ по полученіи почты онъ становился задумчивѣе и грустнѣе; вспомнила, что пріѣзжалъ Исправникъ, котораго., увидѣвъ издалека, Аглаевъ не допустилъ войдти въ комнату: онъ вышелъ къ нему на встрѣчу, долго ходилъ съ нимъ въ саду, и велѣлъ принесть въ бесѣдку чай, ромъ и трубки. Сообразивъ все это, Софья догадалась, что долги безпокоятъ его, что Аглаевъ точно ведетъ образъ жизни свыше своего состоянія, и, слѣдовательно, что онъ совсѣмъ не такой отличный хозяинъ, какъ думали объ немъ. Послѣ сего рѣшилась она потребовать отъ Аглаева откровеннаго признанія о томъ, въ какомъ положеніи дѣла его, узнать, сколько онъ долженъ, и предложить ему возможное пособіе. Но предметъ сей былъ весьма щекотливый: она знала раздражительное самолюбіе Аглаева, должна была изыскивать время, и дѣйствовать съ большою осторожностію. Предлогомъ къ откровенности были болѣзненные припадки Катерины, при вторичной ея беременности. Однажды она дурно спала, жаловалась на головную боль, и весь день не выходила изъ своей комнаты. Аглаевъ обѣдалъ вдвоемъ съ Софьею.
Послѣ обѣда, Катерина еще не просыпалась, и Софья воспользовалась симъ случаемъ. Издалека завела она разговоръ, что семейство ихъ умножается, что состоянія большаго оставишь дѣтямъ они не могутъ, но должны только дать хорошее воспитаніе, а болѣе всего цѣнить добрую нравственность выше всякаго богатства.
"Дѣти! дѣти! Они не въ утѣшеніе, а въ тягость бѣднымъ людямъ," сказалъ Аглаевъ. "Мнѣ кажется, что съ тѣхъ поръ, какъ родилась Соничка, все пошло у насъ хуже. Она, какъ будто принесла намъ несчастіе своимъ рожденіемъ! "
-- Непріятно мнѣ слышать отъ тебя такой вздоръ -- возразила Софья.-- Ты совсѣмъ иначе говорилъ прежде; ты любилъ Соничку, и ежели сестра замѣтила, что ты иначе думаешь, то я и не удивляюсь ея грусти и унынію, которыя столь вредны въ нынѣшнемъ ея состояніи.
"Я не могу сказать, чтобы не любилъ этого ребенка; но положеніе наше становится часъ отъ часу тягостнѣе. Покамѣстъ у насъ не было дѣтей, я думалъ, что въ двоемъ мы кое-какъ можемъ прожить: теперь совсѣмъ иначе все мнѣ представляется, и, признаюсь, мысль о долгахъ моихъ ужасаетъ меня! "
-- Развѣ ты очень много долженъ? Я думала, что получивъ капиталъ, доставшійся тебѣ въ приданое за Катинькою, ты совсѣмъ расплатился.
"Ахъ, нѣтъ, любезная сестра!" сказалъ Аглаевъ," чистосердечно долженъ я признаться тебѣ, и одной только тебѣ могу открыть то, чего не знаетъ еще самая жена моя. Я прошу тебя и не сказывать ей, потому, что это безполезно огорчитъ ее. Послѣ смерти батюшки, ты сама знаешь, я ѣздилъ въ Москву, для разсѣянія, завлеченъ былъ въ игру, и много, очень много проигралъ. Я боялся признаться во время сватовства, что много долженъ; вѣрно маменька отказала-бы мнѣ, и всѣ вы убѣждали-бы Катиньку не выходить за меня. Притомъ-же я надѣялся, что когда нибудь богатый мой дядюшка скончается, и оставитъ мнѣ наслѣдство. Надежда на это до сихъ поръ удерживаетъ еще моихъ заимодавцевъ. Но между тѣмъ долги мои одними процентами ужасно возрастаютъ; дохода съ имѣнія недостаетъ на прожитокъ; часъ отъ часу болѣе затрудненіе увеличивается, и -- Богъ знаетъ, чѣмъ все это кончится! Теперь, но уже немного поздно, входитъ мнѣ въ голову, что должно-бы совсѣмъ иначе дѣйствовать. Надобно-бы мнѣ было пожить нѣсколько времени съ дядюшкою, приобрѣсть его благосклонность, или хотя, по крайней мѣрѣ, прежде женитьбы ѣхать самому, просишь согласія его, и убѣдить, чтобы онъ обеспечилъ мое состояніе. Но влюбленный человѣкъ тоже, что слѣпой: ничего не видитъ впередъ, и способенъ дѣлать безпрестанныя глупости. Amour, amour! quand tu nous tiens, on peut bien dire: adieu prudence (Любовь, любовь! когда мы попались подъ твою власть -- смѣло можно сказать: прощай благоразуміе)! Какъ справедливо сказалъ это Лафонтенъ."
Софья тяжело вздохнула, и, по нѣкоторомъ молчаніи, начала говорить: "Но, любезный другъ! ежели дѣла твои такъ разстроены, и ты много долженъ, то зачѣмъ-же ты не ограничишь своихъ прихотей? Зачѣмъ не расположить жизни своей по способамъ и состоянію своему? Напримѣръ: на что ты держишь собакъ, и такую кучу лошадей? Тебѣ въ этомъ случаѣ можно взять въ образецъ жену свою. Догадываясь, что ты много долженъ, она рѣшительно во всемъ себѣ отказываетъ, не имѣетъ никакихъ желаній, смотритъ, чтобы никакая бездѣлица не пропадала даромъ -- словомъ -- во всемъ наблюдаетъ порядокъ и бережливость."
-- Какъ? Она уже догадывается, что дѣла наши разстроены, и что я много долженъ? Я никогда не замѣчалъ этого!-- "Ты не замѣчалъ отъ того, что она искусно скрывается отъ тебя. Но, не увеличивай ея грусти: ты убьешь ее, ежели она увидитъ, что ты не такъ уже любишь Соничку, какъ прежде. Постарайся смотрѣть на все въ другомъ видѣ; дочь твоя должна увеличишь привязанность къ домашней жизни; болѣе всего -- не унывай. Отчаяніе ничего не производитъ, кромѣ ослабленія моральныхъ и физическихъ силъ. Придумаемъ вмѣстѣ, какъ помочь тебѣ. Я съ своей стороны готова пожертвовать всѣмъ, что имѣю. Капиталъ мой въ вѣрныхъ рукахъ; я получу его въ срокъ, и отдамъ тебѣ; ежели нужно будетъ, то заложи, или продай мое имѣніе, для заплаты своихъ долговъ. Ты, съ своей стороны, также умѣрь свои расходы, перемѣни образъ жизни, и будь увѣренъ, что за пожертвованія свои будешь ты слишкомъ вознагражденъ спокойствіемъ и счастіемъ, собственно твоимъ и семейства твоего."

«На другой день после пріезда въ Москву, Свіяжская позвала Софью къ себе въ комнату. „Мы сегодня, после обеда, едемъ съ тобою въ Пріютово,“ – сказала она – „только, я должна предупредить тебя, другъ мой – совсемъ не на-радость. Аглаевъ былъ здесь для полученія наследства, после yмершаго своего дяди, и – все, что ему досталось, проиграль и промоталъ, попалъ въ шайку развратныхъ игроковъ, и вместь съ ними высланъ изъ Москвы. Все это знала я еще въ Петербурге; но, по просьбе Дарьи Петровны, скрывала отъ тебя и отъ жениха твоего, чтобы не разстроить васъ обоихъ преждевременною горестью.“…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.