Седая нить - [4]
У Москвы были сотни обликов. Были тысячи разных обличий. А личин – миллионы, пожалуй. Их не счесть. Имя им – легион. Всё сливалось в единый образ. Неизменно соединялось – чтобы тут же разъединиться. И потом – сбиться в плотный шар. Вроде странной планеты. Явиться – и пропасть. И возникнуть снова – не такой, как прежде. Иною. А какою? Поди скажи! У Москвы были сонмы взглядов. Толпы страхов. Полчища вздохов. Груды ахов. Лежбища охов. Было аканье – фирменный знак. То есть выговор был особый. По которому все, мгновенно, безошибочно, с первой фразы прозвучавшей, её узнают.
У Москвы были – мы, скитальцы. Очевидцы её величья, пробужденья, произрастанья из глубин, схожденья с высот, прорастанья в утро, привычного, с ритмом будничным, прирастанья к дню, который, вполне возможно, нас, отверженных, и спасёт.
Шли мы долго и напряжённо. Шли – вперёд. Как в балладе Киплинга: «Мы идём…» Отнюдь не по Африке. По Москве осенней мы шли. Кто бы мог подумать, что хватит у обоих для этого выдержки? Нет, не выдержки – воли. Хватило. У обоих. Идти – смогли.
Добрели до храма в Останкине. Сквозь листву – к небесам воззвали мы. Посмотрели туда: услышат ли? Понимают ли? Вроде да. Хорошо бы. Ведь заслужили мы снисхожденье к себе. Намучались. Просветленья в судьбе мы чаяли. Ведь бывает – хоть иногда.
Повернули потом обратно. Повернули – само собою. Надо было назад возвращаться. Не бродить же весь день по Москве! Не страдать же до бесконечности. Может, будет он, знак из вечности? Утро блёкло в своей быстротечности. Ветерок сквозил по листве.
Совершали – хожденье странное. За три моря? В края обманные? За небесной желанной манною? Север, запад, восток и юг находились всё там же. Реяло нечто в высях. Прохладой веяло. Что-то зёрна раздумий сеяло. Завершали огромный круг.
И Довлатов спросил меня вдруг:
– Володя, скажи мне, пожалуйста, что такое, по-твоему, время?
И тогда я ответил Сергею:
– По-моему, так я думаю, время – это материя.
– Значит, время материально?
– Безусловно.
– Как мы с тобой?
– Да.
– И космос?
– Конечно.
– И слово?
– Разумеется.
– Что «в начале…»?
– Помнишь?
– Помню.
– Да, «было слово».
– И пространство?
– Думаю, тоже.
– Ну а мысль?
– Я уверен в этом.
– Ну а память?
– И память.
– Так… Всё, выходит, материально.
– Вся вселенная.
– Ну а дух?
– Дух – таинственная материя.
– Но – материя, а не символ, не какой-то условный знак?
– Полагаю, что это так.
– Хоть и странно мне, этому верю я.
– Время – это сама материя.
– Есть у времени – имя?
– Есть.
– Но какое?
– У каждого времени, так я думаю, есть своё имя.
– Чтоб не путать его с другими?
– Если хочешь, можно и так.
– Да, всё это – отнюдь не пустяк.
– Нет случайного в мире.
– Нет?
– Есть лишь связь всеобщая. Свет.
– Свет? Согласен.
– И путь.
– Ну да!
– И на этом пути – звезда.
Круг хождения нашего раннего скоро должен был там замкнуться, где, на воздух с похмелья выбравшись, мы с Сергеем его начинали, то есть в доме, в моей квартире.
Он уже виднелся вдали, впереди, светлел за деревьями, дом, в котором нам предстояло как-нибудь, как выйдет, как сложится, как получится, – что гадать? – может быть, в безбрежной хандре, из которой так трудно вырваться, может быть, в надеждах подспудных, в ожиданье чего-то нового, небывалого, вроде сказки, пусть наивно, в наше-то время, о таком вот чуде мечтать, ну а может быть, с Божьей помощью, – уж во всяком случае, честно глядя правде в глаза, с достоинством, как пристало поэту с писателем, и, конечно же, с мужеством должным, без которого просто нельзя нам двоим ни жить, ни дышать, – словом, вновь уповая на что-то, что могло бы спасти нас вдруг, появившись из ниоткуда и каким-то загадочным образом, скоротать наконец-то весь назревающий нынешний день.
Довлатов, сморщив лоб, взглянул на меня из-под густых, расходящихся от переносицы двумя извилистыми дугами, бровей своими тёмными, с расширенными, влажно чернеющими зрачками и красноватыми, после бессонной ночи с питьём и беседами, белками, как-то слишком отдельно и независимо от всей массивной его фигуры существующими глазами и горестно, глухо вздохнул:
– Господи! Хоть бы что-нибудь произошло!..
– Вот прямо сейчас и произойдёт! – отозвался я тут же, мгновенно, и сам удивился тому, что сказал.
И тотчас же впереди, на фоне коричневатых, сбитых в дружную стайку, стоящих прямо, уверенно, тех, что моложе по возрасту, и серых, даже седых, морщинистых, более редких, стоящих поодиночке, с вызовом и упорством, тех, что значительно старше, словно прочерченных кем-то прямо по влажному воздуху, резко, размашисто, броско, точно, как на офорте, окрестных древесных стволов, разглядел я что-то знакомое.
Вернее, кого-то знакомого.
Этот некто у нас на глазах, как будто в калейдоскопе, из всяких слишком разрозненных кусочков, клочков и намёков на что-то необъяснимое собрался в единое целое – и стал совершенно реальным художником Толей Зверевым.
Был одет он в новёхонький плащ – заграничный, само собою. Он советских вещей не носил. Плащ был щедро измазан красками. На груди, подобно значку, специально им нарисованный, красовался его знаменитый вензель – подпись его – АЗ.
Был обут он в новые туфли – заграничные, это понятно. И штаны были тоже новые, заграничные. Только всё это было – с редкостным, право, искусством по внезапному превращению всей одежды его роскошной то ли в тряпки для вытирания всех его вдохновенных кистей с мастихином, когда-то подаренным потрясённым его работами, намалёванными мгновенно на глазах у собравшейся публики, мексиканцем Давидом Сикейросом, то просто, возможно, в палитру, то ли в живопись небывалую, – измазюкано до невозможности, сюрреальности, гиперреальности и абсурдности, пёстрыми красками – и являло собою нечто удивительное, чему объяснения и названия легионы искусствоведов, сколько позже о нём ни писали, так, представьте, и не нашли.
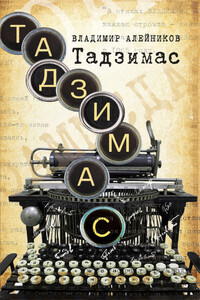
Владимир Алейников (р. 1946) – один из основных героев отечественного андеграунда, поэт, стихи которого долго не издавались на родине, но с начала шестидесятых годов были широко известны в самиздате. Проза Алейникова – это проза поэта, свободная, ассоциативная, ритмическая, со своей полифонией и движением речи, это своеобразные воспоминания о былой эпохе, о друзьях и соратниках автора. Книга «Тадзимас» – увлекательное повествование о самиздате, серьезнейшем явлении русской культуры, о некоторых людях, чьи судьбы неразрывно были с ним связаны, о разных событиях и временах.

Новая книга стихов легендарного «смогиста» Владимира Алейникова – это классическая в лучшем смысле этого определения поэзия, в которой виртуозная рифма облекает не менее виртуозный смысл. Каждое стихотворение – маленький роман, в него входишь как в просторный дом и выходишь измененным…

Яркая, насыщенная важными событиями жизнь из интимных переживаний собственной души великого гения дала большой материал для интересного и увлекательного повествования. Нового о Пушкине и его ближайшем окружении в этой книге – на добрую дюжину диссертаций. А главное – она актуализирует недооцененное учеными направление поисков, продвигает новую методику изучения жизни и творчества поэта. Читатель узнает тайны истории единственной многолетней, непреходящей, настоящей любви поэта. Особый интерес представляет разгадка графических сюит с «пейзажами», «натюрмортами», «маринами», «иллюстрациями».
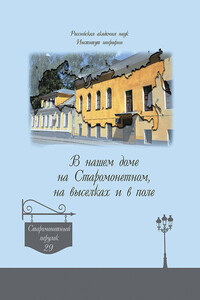
В книге собраны очерки об Институте географии РАН – его некоторых отделах и лабораториях, экспедициях, сотрудниках. Они не представляют собой систематическое изложение истории Института. Их цель – рассказать читателям, особенно молодым, о ценных, на наш взгляд, элементах институтского нематериального наследия: об исследовательских установках и побуждениях, стиле работы, деталях быта, характере отношений, об атмосфере, присущей академическому научному сообществу, частью которого Институт является.Очерки сгруппированы в три раздела.

«…Митрополитом был поставлен тогда знаменитый Макарий, бывший дотоле архиепископом в Новгороде. Этот ученый иерарх имел влияние на вел. князя и развил в нем любознательность и книжную начитанность, которою так отличался впоследствии И. Недолго правил князь Иван Шуйский; скоро место его заняли его родственники, князья Ив. и Андрей Михайловичи и Феодор Ив. Скопин…».
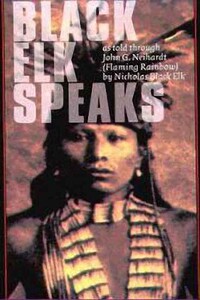
Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Кого любил Василий Аксенов – один из самых скандальных и ярких «шестидесятников» и стиляг? Кого ненавидел? Зачем он переписывался с Бродским и что скрывал от самых близких людей? И как смог прожить четыре жизни в одной? Ответы на эти непростые вопросы – в мемуарной книге «Четыре жизни Василия Аксенова».

Кто такие «шестидесятники» и в чем их феномен? Неужели Аксенов, Бродский и Евтушенко были единственными «звездами» той не такой уж и далекой от нас эпохи высоких дамских начесов и геометрических юбок? Анатолий Гладилин может по праву встать с ними в один ряд. Он написал легкую и изящную, полную светлой грусти и иронии мемуарную повесть «Тигрушка», в которой впервые сказана вся правда о том невероятном поколении людей, навсегда свободных. Под одной обложкой с новой повестью выходит незаслуженно забытое переиздание «Истории одной компании».