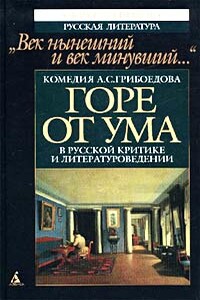Счастливая ошибка - [2]
С Невского кучер поворотил в Морскую и после минутной езды остановился у двухэтажного дома аристократической наружности, с балконом и большим подъездом. Молодой человек вошел в сени. Нигде в доме не было еще огня: сумерки царствовали начиная с сеней. Там швейцар, сидя перед огромной печью, по временам помешивал кочергой жар и напевал вполголоса унылую песенку. В стороне тянулась лестница с позлащенными перилами.
- Дома господа? - спросил молодой человек.
- Должно быть, что дома-с, - отвечал швейцар. - Вот я позвоню.
- Не нужно! - сказал тот и опрометью, как на приступ, бросился на лестницу.
В передней сумерки были еще ощутительнее: из углов, где царствовала настоящая, прямая темнота, неслось храпенье; лакеи спали, вознаграждая себя вперед за предстоящие труды и вечернюю суматоху. Молодой человек остановился перед тремя дверьми в нерешимости, в которую идти. "Отдамся на волю сердца: оно не обманет и поведет прямо к ней", - подумал он и отворил среднюю дверь. Прошедши залу и диванную, он пропал в коридоре, из которого лесенка в четыре ступеньки вела вверх.
С трепетом в сердце, на цыпочках, подкрался он к библиотеке, и вдруг этот теплый, сердечный трепет превратился в холодный, лихорадочный озноб, когда он вошел в комнату. Там на мраморном столике чуть теплилась лампа и освещала лица двух стариков, которые, сидя в вольтеровских креслах друг против друга, сначала, вероятно, беседовали и потом утопили свою беседу в сладкой дремоте.
Не только молодого человека, который ожидал встречи пламенных черных глаз, но всякого охватил бы озноб при взгляде на одного из спавших стариков. Вообразите огромную лысину, которая по бокам была вооружена двумя хохолками редких седых, стоячих волос, очень похожими на обгоревший кустарник; вскоре после лысины следовал нос: то был конус значительной величины, в который упиралась верхняя губа, помещенная у самого его основания, а нижняя, не находя преграды, уходила далеко вперед, оставляя рот отворенным настежь; по бокам носа и рта бежали две глубокие морщины и терялись в бесчисленных складках под глазами. Сверх того, всё лицо было испещрено самыми затейливыми арабесками. Таков был действительный тайный советник барон Карл Осипович Нейлейн, владетель этого дома. Другого старика не знаю; вероятно, приятель барона; физиономия его была, однако ж, гораздо благопристойнее. Оба они покоились сном праведника, хотя лицо первого пристало бы самому отчаянному грешнику.
"Вот поди, вверяйся сердцу, куда оно заведет!" - с досадой сказал молодой человек и, повернув назад, вошел в маленькую диванную. Там, свесив одну ногу, а другую поджав под себя, сидела на богатом оттомане и также дремала, запрокинув голову, супруга барона. Подле нее лежала моська, которая, при появлении молодого человека, заворчала. Он, чтоб не возбудить тревоги, поспешно отправился назад.
"Что за встречи! Где же Елена? - подумал он и остановился в нерешимости куда идти. - Здесь все сидят попарно. Поспешу сыскать ее для симметрии: нас будет также пара". - В эту самую минуту в соседней комнате раздался звучный аккорд на фортепиано, и молодой человек бросился как будто на призыв.
Пора, однако, сказать, кто таков был он, зачем пожаловал в такую пору в чужой дом, почему так своевольно расхаживает и чего отыскивает. Звали его Егор Петрович; он происходил из знаменитого рода Адуевых и был отдаленнейший родственник барона Нейлейн; приехал в дом к нему по двум причинам - одной обыкновенной, другой необыкновенной: первая - родство, как выше сказано, а вторая - любовь к прелестной восьмнадцатилетней дочери барона Елене, милой, стройной, пламенной брюнетке, которую он и отыскивал в потемках.
Он уже намекал ее родителям о своем намерении жениться на ней, а они намекнули ему, что они рады такому союзу, потому что Адуев - разумеется, они этого не сказали ему - имел три тысячи душ и другие весьма удовлетворительные качества жениха и мужа и вдобавок привлекательную наружность - обстоятельство, заметим мимоходом, весьма важное для Елены. Из этих обоюдных намеков возникло дело довольно ясное, приведенное в бoльшую ясность молодыми людьми.
При всем том Егор Петрович иногда жаловался, что он совсем не так счастлив в любви, как бы ему того хотелось. Сам он любил пламенно, со всею силою мечтательного сердца; даже думал, что любовь его к Елене есть окончательный расчет его с молодостью, что сердце, истомленное мелочными связями без любви, ожесточенное изменами, собрало наконец, после неудачных поисков предмета по себе, последние силы, сосредоточило всю энергию и ринулось на отчаянную борьбу, из которой, как казалось ему, оно выйдет после неудачи разбитое, уничтоженное и неспособное более к электрическому трепету сладостного чувства. Что же бы оставалось ему в жизни после этой невозвратимой утраты? Любя Елену и будучи любим ею, он смотрел, при этих условиях, на жизнь как на цветущий сад, на любовь к Елене как на последнюю купу роскошных дерев и гряду блестящих цветов, растущих у самой ограды: без этого жизнь представлялась ему пустым, необработанным полем, без зелени, без цветов...

Цикл очерков Ивана Александровича Гончарова «Фрегат „Паллада“» был впервые опубликован в середине 50-х годов XIX века. В основу его легли впечатления от экспедиции на военном фрегате «Паллада» в 1852—1855 годах к берегам Японии с дипломатическими целями. Очерковый цикл представляет собой блестящий образец русской прозы, в котором в полной мере раскрывается мастерство И. А. Гончарова — художника, психолога, бытописателя.

Роман «Обломов» завоевав огромный успех, спровоцировал бурные споры. Сторонники одного мнения трактовали обломовщину как символ косности России с «совершенно инертным» и «апатичным» главным героем романа. Другие видели в романе философское осмысление русского национального характера, особого нравственного пути, противостоящего суете всепоглощающего прогресса.Независимо от литературной критики, мы имеем возможность соприкоснуться с тонким психологическим рисунком, душевной глубиной героя, мягким юмором и лиризмом автора.

Книга, которая написана более чем полвека назад и которая поразительно современна и увлекательна в наше время. Что скажешь – классика… Основой произведения является сопоставление двух взглядов на жизнь – жизнь согласно разуму и жизнь согласно чувствам. Борьба этих мировоззрений реализована в книге в двух центральных образах – дяди, который олицетворяет разумность, и его племянника, который выражает собой идеализм и эмоциональность. Одно из самых популярных произведений русской реалистической школы.
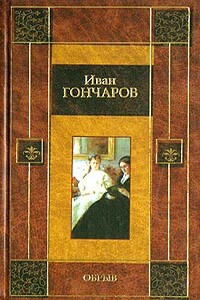
Классика русской реалистической литературы, ценимая современниками так же, как «Накануне» и «Дворянское гнездо» И.С.Тургенева. Блестящий образец психологической прозы, рисующий общее в частном и создающий на основе глубоко личной истории подлинную картину идей и нравов интеллектуально-дворянской России переломной эпохи середины XIX века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рассказы о море и моряках замечательного русского писателя конца XIX века Константина Михайловича Станюковича любимы читателями. Его перу принадлежит и множество «неморских» произведений, отличающихся высоким гражданским чувством.В романе «Два брата» писатель по своему ставит проблему «отцов и детей», с болью и гневом осуждая карьеризм, стяжательство, холодный жизненный цинизм тех представителей молодого поколения, для которых жажда личного преуспевания заслонила прогрессивные цели, который служили их отцы.

Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.