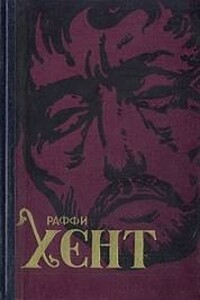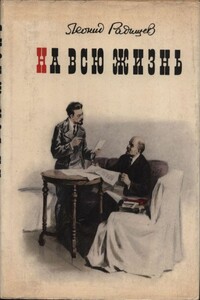Самвел - [53]
6. Базум, 3200 дымов, 1040 всадников, 840 пеших стрелков, 680 копьеносцев, 280 пращников.
7. Мелти, 2080 дымов, 800 всадников. 1030 пеших.
Жаль, что Зеноб упоминает из двенадцати посадов только семь, а из остальных пяти упоминает только название Муша, да и то без числа дымов. Но слова историка, что «это большие посады, как записано в книге князей Мамиконян», заставляют думать, что остальные пять посадов как по своим размерам, так и по количеству населения были если не больше, то во всяком случае не меньше остальных семи, тем более, что среди них был Муш, о котором имеются сведения, как об одном из многолюдных городов Тарона. Так или иначе, имея на руках данные относительно вышеназванных семи посадов, нетрудно определить приблизительное число жителей остальных пяти.
Семь посадов в общем имели 14378 дымов. Если эту сумму разделить на 7, то на каждый посад выпадает 2054 дыма. Если остальным пяти посадам придать по 2054 дыма, то все вместе они будут иметь 10270 дымов. Следовательно, все двенадцать посадов будут иметь 24648 дымов.
В патриархальной обстановке тех времен каждая семья, или дым, могла состоять из 20–30 членов, но, если считать, что в каждой семье было только по пяти душ, можно вывести общую цифру населения всех двенадцати посадов, а именно — 123240 душ.
Любопытно, какова была военная сила этих монастырских посадов. Руководствуясь тем же способом исчисления, найдем общую цифру. Семь посадов вместе имели 13308 пехоты и конницы. Каждый посад имел 1901 воина. По этому расчету остальные пять посадов имели 9505 воинов. Таким образом, общее число воинов двенадцати посадов равнялось 22813.
При наличии столь огромной военной силы у этого монастыря не приходится удивляться тому кровопролитию, которое произошло в результате сопротивления языческого капища войскам Трдата, пришедшим вместе с Просветителем разрушить древнюю кумирню.
Отсюда ясно, что монастырь Глака представлял собою могучее духовное нахарарство как по обширности своих владений, так и по количеству военной силы, но именно духовное нахарарство.
Начиная со времен Просветителя и Трдата монастыри и церкви овладели значительной долей земель и населения Армении.
Однако энергичные преемники Просветителя стали добиваться еще большего увеличения числа церковных владений соответственно растущему числу монастырей и храмов.
Среди преемников Просветителя первое место в церковном строительстве занимает Нерсес Великий. По свидетельству современного ему историка, число основанных им монастырей доходит до 2040. Эту цифру, пожалуй, можно считать чрезмерной. Но в этой чрезмерности заключается та несомненная истина, что Нерсес основал действительно большое количество монастырей, умножив же их, он вместе с тем умножил число монашествующих братий. В его дни число одних только епископов доходило до 1020, не считая церковников низшего сана.
Основанные им монастыри служили различным целям. Это были разного рода епископства, дома для клириков, братства и женские монастыри, разбросанные по всем уголкам армянской земли. И в каждом из них проживало значительное количество оторванных от мира монахов, наслаждавшихся обильными благами монастырей.
Но великое дело этого крупного пастыря, блиставшего своим человеколюбием, любившего свой народ, как друг, состоит, не в этом. Он создал множество благотворительных учреждений, где находили заботу и приют всякого рода горемыки и неимущие. Будет не лишним вспомнить о некоторых из этих учреждений.
Прежде всего, дома, для нищих, где кормились бедные и неимущие. Больницы, в которых лечили больных. Дома для прокаженных, где заботились о таких больных, которые по обычаю страны считались нечистыми и изгонялись из селений, чтобы не заражать других. Эти несчастные жили в пустынях или у больших дорог. Приюты, в которых получали питание старики и люди нетрудоспособные. Приюты для сирот, где кормили сирот и беспризорных детей. Вдовьи дома, где заботились о старушках-вдовах. Гостиницы или странноприимные дома, где находили приют странники, путешественники и прохожие. Постоялые дворы, устроенные у дорог, у горных проходов и вообще в таких местах, где было безлюдно, чтобы путешественники могли найти там пристанище.
Каково было число этих учреждений — неизвестно. Но известно, что они существовали не в одной какой-либо провинции или области, а были разбросаны по всей Армении.
В то время не было нищих, которые бы докучали на улицах попрошайничеством; не существовало гулящих бродяг, которых бы голод вынуждал покушаться на чужое имущество. Каждый был доволен, каждый питался от общественного стола. «Во время Нерсеса, — пишет Фавстос Бузанд, — во всех частях Армении совершенно не было видно, чтобы бедные занимались попрошайничеством, но там, в домах призрения, обслуживались их нужды, и они, удовлетворенные всем, ни в чем не нуждались».
То же самое пишет иерей Месроп: «Во времена Нерсеса никто в Армении не замечал, чтобы появлялись нищие или же нарушители порядка, закона, или же бродяги, которых до того было много в армянской стране. Всему этому положил конец Нерсес».
Великий благоустроитель Армении являл собою совершенный образец добродетели. Сам он прежде всех показывал примеры милосердия и сострадания и убеждал других делать то же самое по отношению к неимущим и нуждающимся братьям.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
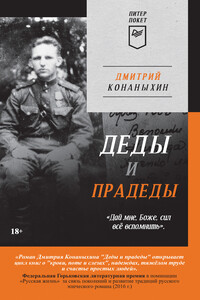
Роман Дмитрия Конаныхина «Деды и прадеды» открывает цикл книг о «крови, поте и слезах», надеждах, тяжёлом труде и счастье простых людей. Федеральная Горьковская литературная премия в номинации «Русская жизнь» за связь поколений и развитие традиций русского эпического романа (2016 г.)
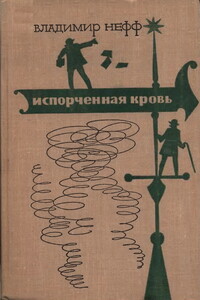
Роман «Испорченная кровь» — третья часть эпопеи Владимира Неффа об исторических судьбах чешской буржуазии. В романе, время действия которого датируется 1880–1890 годами, писатель подводит некоторые итоги пройденного его героями пути. Так, гибнет Недобыл — наиболее яркий представитель некогда могущественной чешской буржуазии. Переживает агонию и когда-то процветавшая фирма коммерсанта Борна. Кончает самоубийством старший сын этого видного «патриота» — Миша, ставший полицейским доносчиком и шпионом; в семье Борна, так же как и в семье Недобыла, ощутимо дает себя знать распад, вырождение.
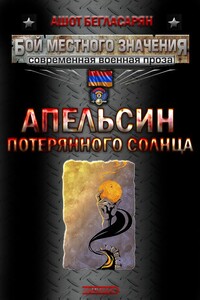
Роман «Апельсин потерянного солнца» известного прозаика и профессионального журналиста Ашота Бегларяна не только о Великой Отечественной войне, в которой участвовал и, увы, пропал без вести дед автора по отцовской линии Сантур Джалалович Бегларян. Сам автор пережил три войны, развязанные в конце 20-го и начале 21-го веков против его родины — Нагорного Карабаха, борющегося за своё достойное место под солнцем. Ашот Бегларян с глубокой философичностью и тонким психологизмом размышляет над проблемами войны и мира в планетарном масштабе и, в частности, в неспокойном закавказском регионе.
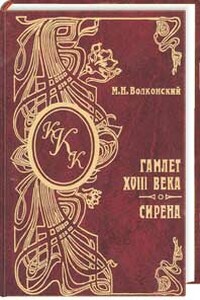
Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

В 1977 году вышел в свет роман Льва Дугина «Лицей», в котором писатель воссоздал образ А. С. Пушкина в последний год его лицейской жизни. Роман «Северная столица» служит непосредственным продолжением «Лицея». Действие новой книги происходит в 1817 – 1820 годах, вплоть до южной ссылки поэта. Пушкин предстает перед нами в окружении многочисленных друзей, в круговороте общественной жизни России начала 20-х годов XIX века, в преддверии движения декабристов.