Салыр-гюль - [15]
Довольно. Домой. Но навстречу мне оборванный нищий старик. Его протянутая за подаянием рука не пуста: в ней на деревянной ручке дымится круглая жаровня. Свободная рука нищего, порывшись в лохмотьях, вынимает какую-то зелёную щепоть и бросает на угли. Синий дым взвился над жаровней и снова опадает. Это продавец запаха. Я вижу: женщина с лицом, спрятанным под чучван, подошла к продавцу благовония, и, дав ему монету, слегка отстранила покров. Синий дымок, выгибаясь спиралью, юркнул под чёрную свесь. Чучван опустился. Продавец и покупательница продолжают свой путь. Но я кончил. Сытый до отвала желудок хочет привалиться в мягкое и уснуть. Наконец-то голова на подушке. Вокруг прохлада двусветной кельи. Перед тем, как заснуть, вспоминаю – сквозь полуявь – недавнее базарное квипрокво.
На глаза мне попались жёлтые треугольнички из теста с запрятанными под тестовую кожу какими-то таинственными пузырьками. Три раза спрашивал я женщину, продававшую неизвестную снедь, как называются непонятные пузырьки. Женщина или не понимала, или не умела, или не хотела назвать. Я упорствовал. Разговор привлёк внимание соседей-продавцов. После нескольких оживлённых с ними консультаций, женщина наконец понимающе улыбнулась и повторила несколько раз кряду: «гар-рох, гар-рох». Так как я был сыт, то завернул несколько треугольников в бумагу и отметил в блокноте: гар-рох. Через два «р» и с ударением на втором слоге. Через некоторое время, уже придя домой, я решил отведать гастрономическую новинку. Сунул треугольник одним из углов в рот и откусил: из-под зуба весело выпрыгнула зелёная горошина.
Так я был посрамлен в собирании фольклора нёба.
Человек сидел перед квадратным ящиком, наполненным грудой ножей. Точнее, кинжалов. Ещё точнее: ножами-метисами, помесью кинжала с простым кухонным ножом. Одни в простых одноухих ножнах, другие в тиснёном полусафьяне, одни по самую макушку эфеса нырнувшие в кожу, другие любопытствующие, выставившие рукояти наружу.
Я подошёл и притронулся к одной из рукоятей: канча? Продавец поднял в ответ руки, как для намаза, распрямив все десять пальцев. Я перевёл глаза на другой нож, поскромнее. Левая рука торговца упала вниз. Глаза мои перепрыгнули на короткое лезвие, выставившееся из чёрной кожи – и тотчас же ладонь, подогнув мизинец, услужливым четырёхпалием пододвинулось к ящику: этот?
Продавец играл на груде лезвий, как на терменвоксе, причудливую мелодию цен.
Виноградным гроздьям здесь обдёргивают виноградины, нет, собственно, не у гроздий, а у рубля отрывают лишние копейки, пока не получится единица без дробей: бир пул. Даже в самом узбекском языке, в следовании его слов, название знаменателя дроби, всё идёт впереди числителя, части. Не «две седьмых», а «семь с двумя» (jettiden iki). Как не вспомнить известную гравюру английского мастера, изображающую сэра Фальстафа с мальчиком-оруженосцем, несущим позади его щит.
Старый Восток, Восток традиции, не любит одробления жизни, хроматизма копеек, размельчения дня на секунды. Не только узбекская песнь, при встрече с ней моего уха, оказалась строго диатоничной. И шаги здесь диатонично широки, потому что хотят скорее дошагать до бесшажия.
Запад и Восток по-разному видят время. Мы видим его с наших круглых светлых циферблатов, напоминающих диск солнца; это солнце мы каждое утро заводим и прячем в жилетный карман – оно у нас в услужении. У него только три луча: часовой, минутный и секундный. И странно: минутный длиннее часового, хотя мы из этого не решаемся сделать вывод, что минута в наших разд`рганных жизнях оказывается иной раз больше и важнее часа.
Восток и сейчас ещё меряет время колебанием длины тени. И не тени солнечных часов, а просто тени, отброшенной столбом, выступом, стеной. Жизнь здесь – говорю о старом, исламистском Востоке – ориентируется не на солнце с его полднем, а на ночь с её… но «полночь» – это уже дробь. Наши пифагорийцы встречали гимном приход солнца. Мусульмане приветствуют намазом – через закат – близящуюся ночь. Жизнь покорно следует за тенью: утром, когда она длинна, и жизнь растягивается во всю длину базаров; к полудню, вместе с укорачивающейся тенью, укорачи вается, втягивается в дома и жизнь, и только с наступлением ночи, когда тень поднимается во весь свой рост, Шахразада продолжает прерванный солнцем рассказ.
В сущности, ещё года три тому назад мне удалось, идя как-то по Волхонке, свернуть в Кита Ходжа Ахрар. Это было в дни исчезновения мелочи: из кошельков, кондукторских сумок, кассовых сеток. Как бы хотелось прибавить: и из голов. Увы, головы наши именно в ту пору, как никогда, были набиты мелочью: желчинками, всплывшими в мозг, самоуколами, психической копотью, забившей все мозговые извилины. Мне предстоял большой конец от Сретенских до Пречистенских. Хотя я и держал в протянутой руке жёлтую рублёвую бумажку, но она провезла меня метров на десять, не более: «нет сдачи» – «сойдите, гражданин». И я пошёл параллельно перегоняющим меня вагонам. Трамваи стали для меня мнимостью, бесполезным грохотом, который лишь отвлекал от моих пешеходных дум. Я мысленно вырезал рельсовый путь из каменной ленты улицы, дома сдвинулись, и уличный извив стал похож на ручьеобразный ход длинных улиц Востока. У перекрёстка сидел мальчонка, подоткнув колени под застеклённый ящик со спичечными коробками. Я помахал ему рублём. Мальчик, откинув стекло, стал отсчитывать пять десятков набитых спичками коробок. Я отрицательно покачал головой: лучше ни одной, чем пятьдесят. И снова трёпаная жёлтая бумажонка вернулась в карман, а я продолжал путь. Минутная стрелка уличных часов, точно стряхивая с себя брызги секунд, дёрнулась и переместилась на деление. Она прошла уже почти полкруга, а мне ещё и шагать и шагать. Дело уйдёт раньше, чем я дойду до него. Но инерция шага продолжала переставлять мои ноги.

В настоящее издание вошли все стихотворения Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1886–1950), хранящиеся в РГАЛИ. Несмотря на несовершенство некоторых произведений, они представляют самостоятельный интерес для читателя. Почти каждое содержит темы и образы, позже развернувшиеся в зрелых прозаических произведениях. К тому же на материале поэзии Кржижановского виден и его основной приём совмещения разнообразных, порой далековатых смыслов культуры. Перед нами не только первые попытки движения в литературе, но и свидетельства серьёзного духовного пути, пройденного автором в начальный, киевский период творчества.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
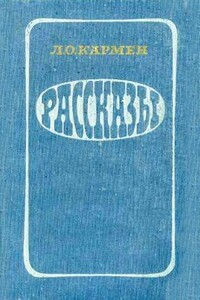
В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват… Его все знали в Одессе, знали и любили». И… забыли?..Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи.
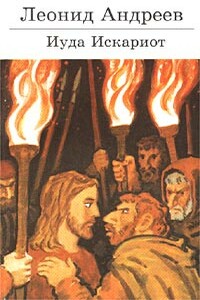
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.