Сакральное и телесное в народных повествованиях XVIII века о чудесных исцелениях - [2]
В 1750 году чудесное исцеление было описано черносошным крестьянином Двинского уезда Архангельской губернии Егором Христофоровым Дудиным. Дудин записал, частью со слов его десятилетней дочери Матроны, частью по своим собственным впечатлениям, как Матрона была мучима «дьявольскими видениями», была расслаблена, плохо говорила, болела ногами, как к ней 6 раз являлся Никола Чудотворец, дважды ангел и дважды сам Спаситель, и как ей пришло исцеление. «По настоянию св. Николая» Дудин записал все видения в тетради (они получились объемной книжкой, толщиной в палец!) и учинил в своем доме особое почитание образа Николы как чудотворного. В конце 1756 года по доносу приходского священника, сообщавшего о паломничестве в дом Дудиных «из разных волостей множества народу», о наличии запрещенных «привесов» к иконе (серебрянных монет, крестов, колокольчиков, перстней, серебряных полтинников и «сапошков») служением у иконы, «молебнов», началось следствие. Из дома тогда были изъяты не только икона, но и книжка с записью чудес. «Чудеса» скопировали в Архангельской консистории, и они дошли до нас копией в синодальном деле. По распоряжению Синода следствие по поиску еще секретной части чудес продолжилось в Тайной канцелярии, в конце концов их у Дудина изъяли, а его с «прочими» отправили «в Архангелогородскую губернскую канцелярию для поступления с ним по законам» (РГАДА. Ф. у. On. 1. Д. 1788; РГИА. Ф. 796. Оп. 38. Д. 33. Далее цитируются записи чудес из дела РГИА, л. 7–30).
Безусловно, запись видений отроковицы Матроны — источник уникальный, требующий самостоятельного исследования, сравнимый по значимости с хорошо изученным в литературе Житием Соломонии бесноватой. Однако, насколько мне известно, это Видение еще не привлекало внимания исследователей.
Итак, обе девицы, Марья и Матрона, страдали расслаблением членов, были прикованы к постели (Марья, вероятно, постоянно, Матрона временно после перенесенной болезни), и описание их страданий составляет вполне точный и ясный для медика документ: Матрону «мучило веема страшно, что и по полу как червь вьется, а крык во весь голос, как может крычать, а глазами не глядит»; 1 [декабря] 1749 года «пребезмерно мучило ж и ревела изо всею горла и билась пребезмерно ж», «зубы сцепила так крепко, что невозможно рта отворить, а сама опрутелахудо и дышит»; «под коленку знак запеклось крапины красные и скорчилась, ни владеет ничего, а как было сперва обожжено, тогда было знак красные пузыри стекли… ходить не могла, ноги правой нет не служит». Марья Прокина описывает свою болезнь короче: в 1733 году «имела она, Марья, в тяшкой болезни и разелаблении, в которой лежала три месяца». Но за вполне натуралистическим описанием «истории болезни» история лечения этой болезни выглядит совсем иначе. И, думается, связано это с представлениями о возникновении немощи, в которых рационализм уступает место религиозному, магическому или мистическому объяснению.
Происхождение болезни обычно мыслится как тайна: «приключилась ей по осени неведомо с чего презелная во всем теле болезнь». Очевидно, что христианское объяснение болезни как наказания за грехи, постоянно присутствующее в церковно-учительном повествовании рядом с болезнью, как злом, происходящим от дьявольских козней, известны авторам видений. Но для отроковицы десятилетней Матроны, так же как и для болящей девицы Марьи Прокиной, мотив наказания за собственные грехи явно неактуален. В православии на Руси представление о том, что до взросления детей за их грехи отвечают родители, вероятно, наложило отпечаток на эту часть повествования. Во всяком случае, выясняя происхождение болезни, явившийся Матроне чудотворец Никола сразу спросил, не ругали ли отроковицу матерно отец или мать[3]. Зато тема «дьявольских козней» в крестьянском религиозном сознании приобретает явно выраженную магическую окраску, сконцентрированную в представлении о «порче».
«Брюхо ея от некакой порчи подъемлется» (говорила о своей болезни, предваряя рассказ о чуде иконы Богородицы, Агафья Ильинична Мякишева из Устюжны Железопольской (1725; РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 48), пьянство Егора Дудина также в видении Никола объясняет «порчей»: «ты в прошлом году был в гостях у дяди Рязанова о Рождестви Христове, тебя тут испортили — поднесли тебе пить в маленкой кружечки порчи пиво, как бы оно было не в пиви — в воды, то бы ты умер, а то в пиве — и то пил мало, от того ты не умер, а кружечка подана так: мужик подал сыну Рязанову, а сын подал отцу, а отец подал тебе».
Очевидно, что искать «противоядия» для излечения такой болезни следовало равносильного. Примечательно, что для народного христианства таким противоядием в равной мере могли быть и магические действия знахаря, и сакральная сила христианских креста, икон, молитв, книги.
Об амбивалентном восприятии знахарской практики в народном сознании написано немало. Исследуя образ колдуна в XVIII веке, я тоже касалась этой проблемы, приводя свидетельства «перетекания» магических практик, естественного целительства в христианское словесное врачевание, и наоборот. Поэтому обращу внимание на отражение этой противоречивой роли знахаря в Видении Матроны Дудиной.
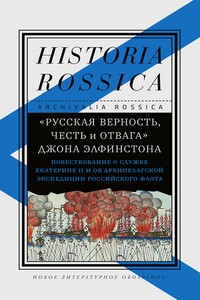
В 1769 году из Кронштадта вокруг всей Европы в Восточное Средиземноморье отправились две эскадры Балтийского флота Российской империи. Эта экспедиция – первый военный поход России в Средиземном море – стала большой неожиданностью для Османской империи, вступившей в очередную русско-турецкую войну. Одной из эскадр командовал шотландец Джон Элфинстон (1722–1785), только что принятый на русскую службу в чине контр-адмирала. В 2003 году Библиотека Принстонского университета приобрела коллекцию бумаг Элфинстона и его сыновей, среди которых оказалось уникальное мемуарное свидетельство о событиях той экспедиции.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.