Сад любви - [3]
Особо хочется сказать о высокохудожественных переводах поэта Ивана Тхоржевского, создавшего поистине неувядающий труд, – первый сборник стихов Омара Хайяма на русском языке. Если какая-то доля «осовременивания», какая-то степень «личностного участия» поэта-переводчика предопределены, то признаем, что на крыльях своего пятистопного ямба Тхоржевский «привнес» в переводную работу отнюдь не самое худшее: страшную силу собственного неверия и… глубину веры. Культуру символизма, звук и дыхание русской поэзии Серебряного века… Влияние европейской послебодлеровской лирики, веяние стихов Анненского, Сологуба… Чудится даже влияние определенной живописи. Может быть, палестинских работ Поленова:
Характер поэта выражен уже в расстановке знаков препинания. (Существенно, что персидская поэтика требует смысловой цельности строки, не любит разрывов, сдвигов, переносов. Здесь от этого правила есть легкие отступления, не такие, как у неумелых переводчиков, не в ущерб поэзии и движению стиха.) Тхоржевский не старается сохранить восточную транскрипцию библейских имен, зато в данном контексте они звучат естественно. Очевидно, на единообразии транскрипции во всех переводах, даже если по-разному пишется имя самого Хайяма, не стоит настаивать, ведь имена входят в звуковой и зрительный образы.) В его переводах стихов Хайяма, связанных с Библией, есть нечто от «Нежности ветхозаветной», говоря словами давней поэтессы. Я бы сказал, что переводы эти, востоковедами не единожды обруганные за «вольность», выполнены непринужденно и целомудренно…
И, естественно, в этих переводах, давление которых сказалось на развитии новой русской поэзии, много личной судьбы, судьбы России… Это недоказуемо, но это чувствуется:
Или другое четверостишие:
…Важным этапом в поэтическом переложении и осмыслении наследия Хайяма следует назвать большую работу нашего современника Германа Плисецкого. В звучании его четырехстопного анапеста впервые возникла зыбкая, колеблющаяся, но уже неразрывная связь с неуловимым звуком персидского стиха. С необыкновенным упорством, с творческим упрямством Плисецкий во всех случаях «вытянул» стих, сохранил верность единственному избранному размеру. Часто пренебрегая буквальной точностью, жертвуя подчас многим, переводчик сделал упор на резкой, рубленой афористичности Хайяма и передал ее твердо и уверенно. Конечно, поэзия, которая вовлекает в свою ткань афоризмы, не должна ими исчерпываться. Вероятно, к отдельным четверостишиям Хайяма в переводе Плисецкого могут быть предъявлены претензии. И тем не менее работа Плисецкого стала в своей области новым словом. В этих переводах много темперамента, сжатой страсти:
Что мы знаем о Хайяме, кроме краткой «биографической справки»? Иной раз остряки-эрудиты процитируют тот или иной перевод Румера или Державина, приглашая к попойке… А мы не знаем даже, пил ли он вино… Или то был некий духовный «напиток», заключающий в себе все сущее. Не об этом ли – рубаи, своеобразно переведенное Т.Лебединским:
Для того чтобы объять массу поэтической «информации», этому переводчику понадобилась форма, несколько напоминающая «Столбцы» Заболоцкого…
Как бы то ни было, именно духовность поэзии Омара Хайяма навеки слилась с духом русской поэзии. Эта высокая духовность будет вечно жить в непрекращающемся переплетении культур… И Егише Чаренц, создавая свои «Рубаи», конечно, думал о Хайяме. Тень грандиозного здания иранской культуры, изливающего потоки света на все четыре стороны, эта легкая тень легла на Закавказье… И, несомненно, не только о вине, заполняющем чашу, но и о «духовном вине» говорится в стихотворении грузинки Анны Каландадзе, которое знаю в прекрасном переводе Арсения Тарковского:
В одном слегка ошибся Арсений Александрович, дивный наш переводчик (впрочем, ошибка эта собственно для поэзии в конце концов малосущественна). Разумеется, плакал над могилой Хайяма не великий Низами Ганджеви. А менее известный, но также весьма достойный и прелестный средневековый писатель Низами Арузи Самарканди. Анна Каландадзе определенно имела в виду «Рассказ седьмой» из главы третьей сочинения прозаика Низами, которое называется «Собрание редкостей, или четыре беседы». Здесь стоит процитировать это место полностью: «В году пятьсот шестом (1112 – 13) в Балхе на улице Работорговцев, в доме эмира Абуда Джарре остановились ходжа имам Омар Хайям и ходжа имам Муз-зазафар Исфизари, а я присоединился к услужению им. Во время пиршества я услышал, как Доказательство Истины Омар сказал: «Могила моя будет расположена в таком месте, где каждую весну ветерок будет осыпать меня цветами». Меня эти слова удивили, но я знал, что такой человек не станет говорить пустых слов.
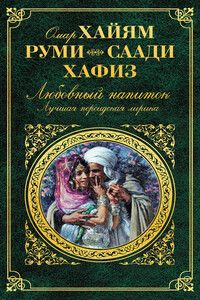
Лучшие произведения выдающихся поэтов Востока Омара Хайяма и Хафиза. Любовные переживания, гедонические советы, философские и религиозные размышления, наставления в житейской мудрости – поэзия классического Востока покоряет разнообразием тем, глубокими эмоциями, яркими образами и оригинальными афоризмами.
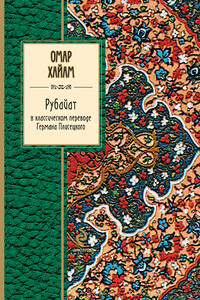
Знаменитые четверостишия-рубаи Омара Хайама (ок. 1048 – ок. 1123) переводятся на русский язык уже более ста лет, но с особым успехом – начиная с 70-х годов XX века. В сборник, который вы держите в руках, вошли рубаи, переведенные замечательным поэтом и переводчиком восточной поэзии Германом Плисецким. «Хайам Германа Плисецкого убеждает прежде всего потому, что в его переводах старый иранский мудрец – действительно великий поэт» (Б. Слуцкий).Дополнительную ценность сборнику придают вступительное эссе Самуила Лурье «Бином Хайама», предисловие самого поэта-переводчика и послесловие с рассказом о его судьбе.
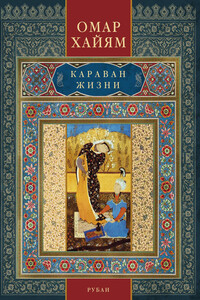
Омар Хайям – астроном, математик, врач, философ, поэт. Был ли такой человек на самом деле? Жизнь Омара Хайяма окутана легендами, мифами и домыслами. Мы даже не знаем точно, сколько четверостиший принадлежит Хайяму, а сколько – перу его последователей. Точно известно только одно – перед нами величайший поэтический гений, чье творчество исполнено мудрости, дерзости, юмора и любви.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
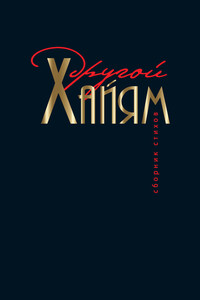
Поэзия Хайяма весьма неоднозначна и содержит многоуровневые пласты смысла. Его стихи не только бросают вызов любой жесткой системе взглядов – они инициируют нас в новые способы мышления.При переводе во главу угла была поставлена адекватная ретрансляция поэтических образов, которые служат своего рода ключами к изначальному языку нашего внутреннего сознания и приближают к восприятию высших аналогий.Первое издание, открывающее книжную серию «Метафизическая поэзия».
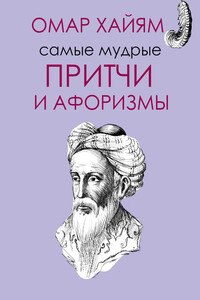
Эта книга собрала в себе самые мудрые притчи и афоризмы великого поэта Востока и одного из самых известных мудрецов и философов. Высказывания Омара Хайяма, передающиеся от поколения к поколению, наполнены глубоким смыслом, яркостью образа и изяществом ритма. С присущим Хайяму остроумием и саркастичностью он создал изречения, которые поражают своим юмором и лукавством. Они дают силы в трудную минуту, помогают справиться с нахлынувшими проблемами, отвлекают от неприятностей, заставляют думать и рассуждать.
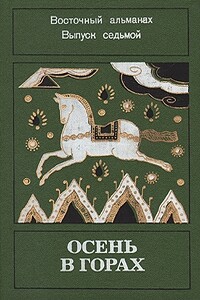
В седьмом выпуске «Восточного альманаха» публикуются сатирический роман классика современной китайской литературы Лао Шэ «Мудрец сказал…» о жизни пекинских студентов 30–х годов нашего столетия; лирическая повесть монгольского писателя С. Пурэва «Осень в горах», рассказы писателей Индии, Японии, Турции, Ливана и Сингапура; стихи поэтов — мастеров пейзажной лирики Пэй Ди, Ван Цзиня, принадлежавших к кругу великого китайского поэта Ван Вэя; статья о быте и нравах жителей экзотического острова Сокотра в Индийском океане и другие материалы.
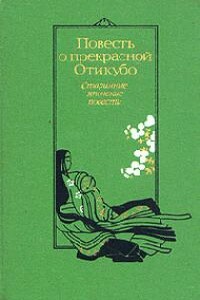
Старинный классический роман — гордость и слава японской литературы. Лучшие из его образцов прочно вошли в золотой фонд всемирно известных шедевров древней классики. К ним относятся японская повесть Х века «Отикубо моноготари» («Повесть о прекрасной Отикубо»), созданную на всемирно известный сюжет сказки о злой мачехе и гонимой падчерице. В этих произведениях еще много сказочных мотивов, много волшебства, однако в них можно обнаружить и черты более позднего любовного куртуазного романа. Так «Повесть о прекрасной Отикубо» густо насыщена бытом, изображенным во многих красочных подробностях, а волшебно-сказочные элементы в ней уступают место «обыкновенному чуду» любви, и, хотя всем происходящим в повести событиям даны реальные мотивировки, они все равно остаются невероятными, потому что подчинены иной правде, действующей в фантастическом мире народного вымысла, где всегда торжествуют добро и справедливость.
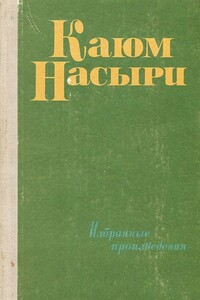
Сказочная повесть о жизни и деятельности известного восточного ученого, философа и поэта Авиценны. Первое издание выпущено в 1881 году. Повесть является переработкой знаменитой книги «Канжинаи хикмет» Зиятдина Сайта Яхъя. Автор переработки известный татарский ученый-просветитель, историк-этнограф Каюм Насыри писал: «Я взял на себя труд перевести эту книгу на язык, понятный мусульманам, проживающим в России».
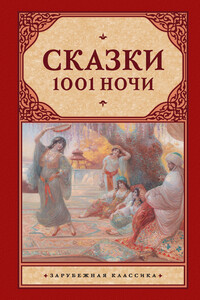
Один из самых популярных памятников мировой литературы – «Книга тысячи и одной ночи», завоевавшая любовь читателей не только на Востоке, но и на Западе.Сказки тысячи и одной ночи – это чудесный, удивительный мир, известный нам с детства. Повествования о героических путешествиях, трогательные повести о влюбленных, увлекательные сказки о коврах-самолетах и джиннах, необыкновенные рассказы о мудрецах и простаках, правителях и купцах… В историях прекрасной Шахразады переплетаются героические и плутовские, мифологические и любовные сюжеты индийского, персидского, арабского миров.В этот сборник вошли сказки про Али-Бабу, Синдбада-морехода, Аладдина и другие, не менее захватывающие, воплощающие всю прелесть и красоту средневекового Востока.
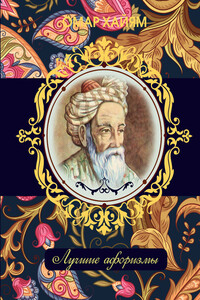
Омар Хайям родился в 1048 году в Нишапуре. Там же учился, позже продолжил обучение в крупнейших центрах науки того времени Балхе, Самарканде и др. Будучи двадцати одного года от роду Омар Хайям написал трактат «О доказательствах задач алгебры и аллукабалы». В 1074 г. возглавил крупнейшую астрономическую обсерваторию в Исфахане. В 1077 г. закончил писать книгу «Комментарии к трудным постулатам книги Евклида». В 1079 г. создал более точный по сравнению с европейским календарь, который официально используется с XI века.После смены правителя Исфахана обсерваторию закрыли.
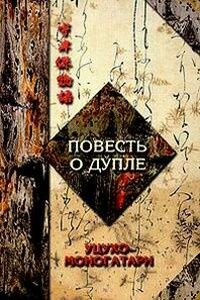
«Повесть о дупле» принадлежит к числу интереснейших произведений средневековой японской литературы эпохи Хэйан (794-1185). Автор ее неизвестен. Считается, что создание повести относится ко второй половине X века. «Повесть о дупле» — произведение крупной формы в двадцати главах, из произведений хэйанской литературы по объему она уступает только «Повести о Гэндзи» («Гэндзи-моногатари»).Сюжет «Повести о дупле» близок к буддийской житийной литературе: это описание жизни бодхисаттвы, возрожденного в Японии, чтобы указать людям Путь спасения.
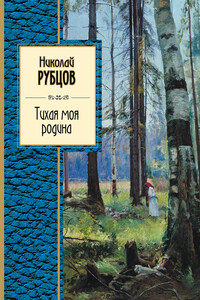
Каждая строчка прекрасного русского поэта Николая Рубцова, щемящая интонация его стихов – все это выстрадано человеком, живущим болью своего времени, своей родины. Этим он нам и дорог. Тихая поэзия Рубцова проникает в душу, к ней хочется возвращаться вновь и вновь. Его лирика на редкость музыкальна. Не случайно многие его стихи, в том числе и вошедшие в этот сборник, стали нашими любимыми песнями.
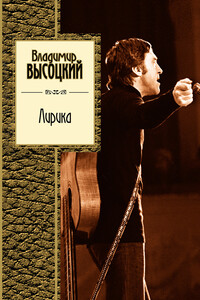
«Без свободы я умираю», – говорил Владимир Высоцкий. Свобода – причина его поэзии, хриплого стона, от которого взвывали динамики, в то время когда полагалось молчать. Но глубокая боль его прорывалась сквозь немоту, побеждала страх. Это был голос святой надежды и гордой веры… Столь же необходимых нам и теперь. И всегда.
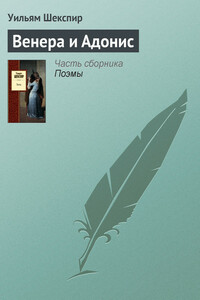
Поэма «Венера и Адонис» принесла славу Шекспиру среди образованной публики, говорят, лондонские прелестницы держали книгу под подушкой, а оксфордские студенты заучивали наизусть целые пассажи и распевали их на улицах.
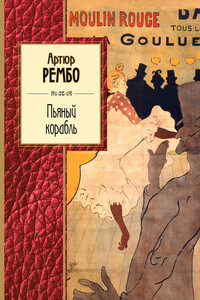
Лучшие стихотворения прошлого и настоящего – в «Золотой серии поэзии»Артюр Рембо, гениально одаренный поэт, о котором Виктор Гюго сказал: «Это Шекспир-дитя». Его творчество – воплощение свободы и бунтарства, писал Рембо всего три года, а после ушел навсегда из искусства, но и за это время успел создать удивительные стихи, повлиявшие на литературу XX века.