Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия - [203]
В 1969 году на экранах появился фильм В. Венгерова «Живой труп», которому предшествовал в 1952 году фильм-спектакль того же режиссера. Новая картина делалась в расчете на актера А. Баталова, хотя роль Федора Протасова ему, по общему признанию, не удалась. Да и сам фильм критика отнюдь не относила к успешным. Среду картины режиссер, по изобразительной атмосфере, сдвинул в сторону Достоевского, героя сделал одиноким, неприкаянным, что к Толстому не имело отношения. Там речь шла о несправедливом устройстве общества, где, вспомним «Воскресение», неправедные берут на себя право суда. В пьесе одинаково страдают все и, пожалуй, больше, нежели Протасов, его супруга и Виктор Каренин.
Передавая свои впечатления от фильма, Лев Аннинский отметил дуэт И. Смоктуновского (Гений) и А. Баталова как выражение изменившегося настроения времени. «Странное ощущение охватило меня, когда Баталов и Смоктуновский оказались вдвоем в кадре, один в рваных обносках доморощенного Фауста, другой в черном пальто провинциального Мефистофеля. Я подумал о том, что вот эти же артисты в начале шестидесятых годов в знаменитом фильме М. Рома „Девять дней одного года“ так блистательно открыли „праздник интеллектуализма“ в нашем кино: в их дуэте и тогда было что-то фаустовское, что-то мефистофельское: искания индивидуального духа, блеск и ироничность отделившегося от быта разума, бросающего вызов „миру дураков“… Но теперь, восемь лет спустя, эти же актеры отыгрывают роли в полуфарсе: один другому сует револьвер и велит наказать целый мир; тому не хочется, а — „надо“»…
Да, в 1962 году такой сюжет мог бы еще наполниться живой кровью искусства; тогда наше кино именно и исследовало мир через отдельного индивида…
На рубеже семидесятых как бы изменились акценты. Теперь исследовали не индивида в противовес миру, а сам мир, в котором индивид себя обретает. И когда теперь Венгеровский Гамлет-Протасов принялся переживать свою «несовместимость с окружающими», — он и сыграл не то, что хотел, и зрители восприняли в нем совсем не то, что хотелось актеру и режиссеру…[691]
В семидесятые годы реже обращаются к Толстому на киноэкране. Но в середине десятилетия появляется ряд телевизионных картин. Только в конце 1970-х выходит профессионально грамотно выполненная лента И. Таланкина «Отец Сергий» (1978). И это, пожалуй, единственная заметная киноэкранизация Толстого в 1970-е.
Перед режиссером картины вставала серьезная этическая проблема, с которой были связаны размышления Толстого едва ли не в течение всей его жизни: как в текущей повседневности жить для Бога, а не для людей? Непримиримость этих двух «образов жизни» заставляет многих из поздних героев Толстого покинуть общество, как и его самого накануне смерти. Поиски Степана Касатского (отца Сергия) приводят его к мысли о невозможности существования в пропитанном искусственностью, ложью мире, даже если это монашья келья. В пределе, воплощенная на практике, эта мысль приводит к тому, что человек должен стереть себя из памяти лживого мира и уничтожить память о нем в самом себе, иными словами, умереть в прежней, искусственной своей ипостаси.
Режиссер начинает фильм сценой, почерпнутой из романа классика «Воскресение». Отец Сергий встречает на пароме странника в рубище (Иван Лапиков), который становится зеркалом дальнейшего пути героя. По сути, с первых кадров картины зритель видит результат страстей Степана Касатского: отец Сергий не проповедует, не учит, не наставляет, а сам слушает старого крестьянина и у него учится. В конце картины сцена повторяется, окончательно становясь метафорой преображения героя, что подкрепляется возникающим на экране последним абзацем повести Толстого: Касатского за бродяжничество сослали в Сибирь, где он поселился на заимке у богатого мужика, работает у него, учит детей, ходит за больными.
Убеждение режиссера в том, что толстовский герой обязательно должен увидеть отражение своей судьбы в судьбе крестьянина, стремление понять это как лейтмотив творчества Толстого имеет под собой основания, но не исчерпывает философии писателя, а скорее приближает ее к ленинской формуле: до Толстого в русской литературе не было большего мужика. В «Отце Сергии» высшим образцом опрощения, примирения с жизнью и смирения является Пашенька, дворянка по происхождению. Есть этот образ и в картине Таланкина. Прасковью Михайловну играет в фильме Алла Демидова. Эпизод занимает довольно большое место. Он выразительно снят Г. Рербергом. Зритель видит лицо юродивой, восковые, ссохшиеся руки. Исчезает живой цвет. Вся сцена — желто-серая. Но между Пашенькой, пробуждающей истину в сознании толстовского героя, и крестьянином в той же роли в прологе и эпилоге картины не может быть равновесия и примирения в философии позднего Толстого.
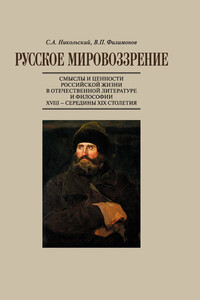
Авторы предлагают содержательную реконструкцию русского мировоззрения и в его контексте мировоззрения русского земледельца. Термин «русское» трактуется не в этническом, а в предельно широком — культурном смысле. Цель работы — дать описание различных сторон этого сложного явления культуры. На начальном этапе — от Пушкина, Гоголя и Лермонтова до ранней прозы Тургенева, от Новикова и Сковороды до Чаадаева и Хомякова — русская мысль и сердце активно осваивали европейские смыслы и ценности и в то же время рождали собственные.

Имя А.С. Кончаловского известно и в России, и далеко за ее пределами. Но и сам он, и его деятельность не поддаются окончательным «приговорам» ни СМИ, ни широкой общественности. На поверхности остаются противоречивые, часто полярные, а иногда растерянные оценки. Как явление режиссер остается загадкой и для его почитателей, и для хулителей. Автор книги попытался загадку разгадать…
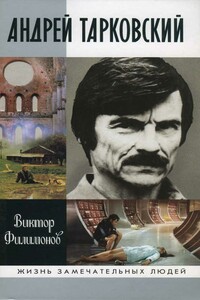
Крупнейший режиссер XX века, признанный мастер с мировым именем, в своей стране за двадцать лет творческой деятельности он смог снять лишь пять фильмов. Не желая идти ни на какие компромиссы с властями, режиссер предпочел добровольное изгнание — лишь бы иметь возможность оставаться самим собой, говорить то, что думал и хотел сказать. Может быть, поэтому тема личной жертвы стала основным мотивом его последнего фильма. Рассказ о жизни гениального режиссера автор сопровождает глубоким и тонким анализом его фильмов, что позволяет читателю более полно понять не только творчество, но и неоднозначную личность самого мастера.
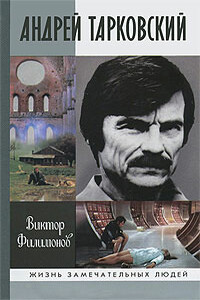
Крупнейший режиссер XX века, признанный мастер с мировым именем, в своей стране за двадцать лет творческой деятельности он смог снять лишь пять фильмов. Не желая идти ни на какие компромиссы с властями, режиссер предпочел добровольное изгнание - лишь бы иметь возможность оставаться самим собой, говорить то, что думал и хотел сказать. Может быть, поэтому тема личной жертвы стала основным мотивом его последнего фильма. Рассказ о жизни гениального режиссера автор сопровождает глубоким и тонким анализом его фильмов, что позволяет читателю более полно понять не только творчество, но и неоднозначную личность самого мастера.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

Ключевой вопрос этой книги: как выглядит XX столетие, если отсчитывать его с 1945 года – момента начала глобализации, разделения мира на Восточный и Западный блоки, Нюрнбергского процесса и атомного взрыва в Хиросиме? Авторский взгляд охватывает все континенты и прослеживает те общие гуманитарные процессы, которые протекали в странах, вовлеченных и не вовлеченных во Вторую мировую войну. Гумбрехт считает, что у современного человека изменилось восприятие времени, он больше не может существовать в парадигме прогресса, движения вперед и ухода минувшего в прошлое.
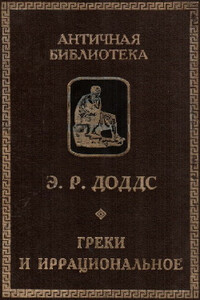
Книга современного английского филолога-классика Эрика Робертсона Доддса "Греки и иррациональное" (1949) стремится развеять миф об исключительной рациональности древних греков; опираясь на примеры из сочинений древнегреческих историков, философов, поэтов, она показывает огромное значение иррациональных моментов в жизни античного человека. Автор исследует отношение греков к феномену сновидений, анализирует различные виды "неистовства", известные древним людям, проводит смелую связь между греческой культурой и северным шаманизмом, и т.

Что это значит — время после? Это время посткатастрофическое, т. е. время, которое останавливает все другие времена; и появляется то, что зовут иногда безвременьем. Время после мы связываем с двумя событиями, которые разбили европейскую историю XX века на фрагменты: это Освенцим и ГУЛАГ. Время после — следствие именно этих грандиозных европейских катастроф.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.