Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование - [53]
Предоставь ей свободу действий в ее сфере, но пусть за каждым ее движением, вздохом, поступком наблюдает твой проницательный ум, чтоб каждое мгновенное волнение, вспышка, зародыш чувства всегда и всюду встречали снаружи равнодушный, но недремлющий глаз мужа. Учреди постоянный контроль без всякой тирании… да искусно, незаметно от нее и веди ее желаемым путем…[378]
Здесь наблюдается не двухходовка, как у Миллера, а как бы трехходовка: текст 1) отрицает непосредственное насилие, 2) противопоставляет ему насилие скрытое, дисциплинарное, но, вместо того чтобы вынести этот второй момент за скобки и сделать из него принцип изображения, он 3) превращает его в объект изображения. Иначе говоря, насилие, даже становясь дисциплинарным, не исчезает из поля зрения; наоборот, его образ подается в сгущенных красках, обнажаются его последствия. Так, например, Петр Иваныч жалуется жене, что, в отличие от рабочих на его фабрике, которых можно просто выпороть за плохое поведение, Александра подобным образом наказать нельзя за его нежелание или неспособность приспособиться к новому, разумному порядку[379]. Александр, в свою очередь, временами воспринимает наставничество дяди как в чистом виде деспотичное: «Боже! когда же он освободится от несокрушимого влияния дяди? Неужели жизнь его никогда не примет особенного, неожиданного оборота, а будет вечно идти по предсказаниям Петра Иваныча?»[380] Наконец, в эпилоге, проблематика дисциплинарности окрашивается в явно политические тона. По ходу разговора с женой, которая, как и Александр, постепенно увядает под семейной опекой государственного служащего, Адуев-старший вынужден признаться, что его метод – не что иное, как «холодная тирания»[381]. Лизавета Александрова, в свою очередь, восклицает: «Боже мой! зачем мне свобода? ‹…› Что я стану с ней делать? Ты до сих пор так хорошо, так умно распоряжался и мной, и собой, что я отвыкла от своей воли; продолжай и вперед; а мне свобода не нужна»[382].
Затронутый вопрос о свободе и желаниях – базовый вопрос Нового времени, на который все рассмотренные нами социальные воображаемые призваны предложить ответ, – получает характерное развитие в одном из самых ранних разговоров между племянником и дядей. Здесь Петр Иваныч допрашивает Александра о цели его прибытия в Петербург. Александр предлагает несколько неубедительных объяснений, например: «Я приехал… жить». И дальше: «Пользоваться жизнью, хотел я сказать». И наконец: «Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности; во мне кипело желание уяснить и осуществить ‹…› Осуществить те надежды, которые толпились…»[383] В конце концов, он вынужден признаться, что сам не знает, зачем приехал. И именно здесь в первый раз появляются ключевые слова «карьера и фортуна», впервые произнесенные дядей и лишь повторенные племянником. Если задуматься, Вильгельм в начале романа Гёте не имеет хоть сколько-нибудь более конкретных целей. Он отправляется по деловому поручению, отвлекается, вступая в театральную труппу, которую затем не раз хочет оставить, но каждый раз остается. Он тоже жаждет благородной деятельности, в нем кипит стремление к самореализации. Но у Гёте эти стремления движут героем на фоне квазипровиденциального горизонта, который заранее, в лице Общества башни, гарантирует положительный исход самым, казалось бы, неоправданным решениям, порывам и импульсам: «от ошибок можно излечиться, только ошибаясь»[384]. Иначе у Гончарова, где неопределенные стремления героя расцениваются как бесполезная трата энергии, которую необходимо перенаправить на достижение рангов и богатства и таким образом завербовать на службу государственному проекту управляемой свыше модернизации. Надо отметить, что образ карьеры здесь принципиально отличается также и от соответствующей проблематики у Бальзака, где амбиция поставлена на службу потребительским и честолюбивым интересам самого индивида. Здесь карьера – это то, что заставляет человека делать «дело», то есть принимать активное участие в построении рационального порядка Нового времени. Перед нами скорее социально-воображаемая модель «общего интереса», но построенная не как у Гёте, на спонтанном, а значит легитимирующем порядок достижении данной точки зрения самим героем, а на давлении сверху, внушающем цель и обучающем средствам. Здесь напрашивается параллель с тезисом историка Марка Раева об особой форме проекта «регулярного полицейского государства» в России, где, в отличие от процессов, протекающих в германских землях (там делался больший упор на уже существующие институты), процесс модернизации происходит при «почти полной зависимости от позитивного лидерства и контроля со стороны центрального государственного аппарата»[385]. Здесь же можно вспомнить тезис Виктора Живова о традиционно ослабленных в российском идеологическом пространстве практиках «интериоризации социальных запретов», с одной стороны, а с другой – соответствующе кардинальной роли государства в цивилизационном процессе[386].
Последствия применения к Александру принудительных методов управления «регулярного полицейского государства» становятся очевидны к концу основной части романа. Александр постепенно погружается в глубокую апатию, теряет способность чего бы то ни было хотеть. Дядя пытается возбудить в нем амбиции, напоминая, что его собираются уже в третий раз обойти по службе, хочет даже возбудить в нем прежнее желание литературной славы и любви, но Александр только угрюмо смеется в ответ. Отчаиваясь преуспеть, Петр Иваныч восклицает: «Человек должен же хотеть чего-нибудь?»

В издании впервые вводятся в научный оборот частные письма публичных женщин середины XIX в. известным русским критикам и публицистам Н.А. Добролюбову, Н.Г. Чернышевскому и другим. Основной массив сохранившихся в архивах Москвы, Петербурга и Тарту документов на русском, немецком и французском языках принадлежит перу возлюбленных Н.А. Добролюбова – петербургской публичной женщине Терезе Карловне Грюнвальд и парижанке Эмилии Телье. Также в книге представлены единичные письма других петербургских и парижских женщин, зарабатывавших на хлеб проституцией.

Институт литературы в России начал складываться в царствование Елизаветы Петровны (1741–1761). Его становление было тесно связано с практиками придворного патронажа – расцвет словесности считался важным признаком процветающего монархического государства. Развивая работы литературоведов, изучавших связи русской словесности XVIII века и государственности, К. Осповат ставит теоретический вопрос о взаимодействии между поэтикой и политикой, между литературной формой, писательской деятельностью и абсолютистской моделью общества.

Годы Первой мировой войны стали временем глобальных перемен: изменились не только политический и социальный уклад многих стран, но и общественное сознание, восприятие исторического времени, характерные для XIX века. Война в значительной мере стала кульминацией кризиса, вызванного столкновением традиционной культуры и нарождающейся культуры модерна. В своей фундаментальной монографии историк В. Аксенов показывает, как этот кризис проявился на уровне массовых настроений в России. Автор анализирует патриотические идеи, массовые акции, визуальные образы, религиозную и политическую символику, крестьянский дискурс, письменную городскую культуру, фобии, слухи и связанные с ними эмоции.
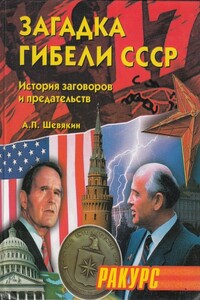
Книга представляет собой исследование причин процессов, повлекших за собой разрушение СССР, в исторической ретроспективе с момента окончания Второй мировой войны до наших дней. Благодаря системному анализу, автору удалось показать, как осуществлялся разгром Советского Союза извне и изнутри: с активным участием в этом процессе информационно-аналитических институтов и технологий США и рядом предательств со стороны высшего руководства СССР. Ему удалось опровергнуть миф о «естественном» распаде Союза как изжившей себя социально-политической и экономической системы, а также высветить подлинные причины страшной трагедии, приведшей к огромным жертвам и потерям советского государства и советского народа.
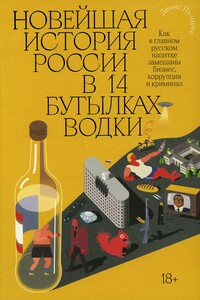
Водка — один из неофициальных символов России, напиток, без которого нас невозможно представить и еще сложнее понять. А еще это многомиллиардный и невероятно рентабельный бизнес. Где деньги — там кровь, власть, головокружительные взлеты и падения и, конечно же, тишина. Эта книга нарушает молчание вокруг сверхприбыльных активов и знакомых каждому торговых марок. Журналист Денис Пузырев проследил социальную, экономическую и политическую историю водки после распада СССР. Почему самая известная в мире водка — «Столичная» — уже не русская? Что стало с Владимиром Довганем? Как связаны Владислав Сурков, первый Майдан и «Путинка»? Удалось ли перекрыть поставки контрафактной водки при Путине? Как его ближайший друг подмял под себя рынок? Сколько людей полегло в битвах за спиртзаводы? «Новейшая история России в 14 бутылках водки» открывает глаза на события последних тридцати лет с неожиданной и будоражащей перспективы.
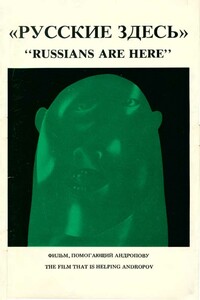
Мы сочли необходимым издать эту книгу не только на русском, но и на английском языке для того, чтобы американские читатели знали, что эмигранты из СССР представляют собой нечто совсем иное, чем опустившиеся неудачники и циники, которые были отобраны для кинофильма "Русские здесь". Объем книги не позволил вместить в нее все статьи об этом клеветническом фильме, опубликованные в русскоязычной прессе. По той же причине мы не могли перевести все статьи на английский язык, тем более, что многие мысли в них повторяются.

Эта книга посвящена 30-летию падения Советского Союза, завершившего каскад крушений коммунистических режимов Восточной Европы. С каждым десятилетием, отделяющим нас от этих событий, меняется и наш взгляд на их последствия – от рационального оптимизма и веры в реформы 1990‐х годов до пессимизма в связи с антилиберальными тенденциями 2010‐х. Авторы книги, ведущие исследователи, историки и социальные мыслители России, Европы и США, представляют читателю срез современных пониманий и интерпретаций как самого процесса распада коммунистического пространства, так и ключевых проблем посткоммунистического развития.

Очередная книга Валентины Красковой посвящена преступлениям власти от политических убийств 30-х годов до кремлевских интриг конца 90-х. Зло поселилось в Кремле прежде всех правителей. Не зря Дмитрий Донской приказал уничтожить первых строителей Кремля. Они что-то знали, но никому об этом не смогли рассказать. Конституция и ее законы никогда не являлись серьезным препятствием на пути российских политиков. Преступления государственной власти давно не новость. Это то, без чего власть не может существовать, то, чем она всегда обеспечивает собственное бытие.