Русский Нил - [23]
Начальство, министерство, целая половина России вчера удивлялись этим "злым плодам учения". "Готовили одно, а вышло другое". Почему? Как? Но дело в том, что решительно всякое учение, как бы его ни кастрировали, ни обрабатывали «педагогически», содержит, однако, в себе непременно взрывчатые силы маленького или большого "renaissance'а", реформации, революции и т. д.; оно содержит определенные и не могущие быть выкинутыми из программы сведения против всяческой темноты, закорузлости, традиционности, прямых обманов и лжи, какие вошли, и тысячелетне вошли, во весь уклад старой Европы. Ну, например, эти 100 000 доказанных лет от сотворения мира? Красота маленьких республик Греции и Италии? факт свободной воли? Да и это ли одно? А идеалы литературы и поэзии? «Мертвенность» или «консервативность» школы может заключаться в том только, что все это будет упоминаться глухо, на эти отделы будет накинут покров схоластики. Но не упомянуть об этом все-таки невозможно: просто эти отделы науки, вечного и повсюдного знания! Но преподаватели-то прошли это глухо и мертвенно, а ученики взяли да и оживили! Влили сок и кровь в слова! Возвели школу к реальному!
Для темных и старых сил истории есть только один выбор: не учить вовсе, похоронить науку совсем! Открывать не то чтобы «охранительные» школы, а не открывать вовсе никаких школ. Это можно, то есть можно повести Россию к эпохе печенегов и половцев, к состоянию Кореи или Китая. Можно и это, но ценою бытия, жизни, ибо мертвые, неживые куски истории проглатываются живыми организмами. Тут и биология и Бог — и с этим не справиться ни мудрецам, ни хитрецам, ни повелителям.
— От кого, от кого я мог ожидать этого, а уж не от Михайлова, — воскликнул удивленно директор Вишневский, узнав об аресте и заключении в тюрьму этого "украшавшего гимназию" ученика в первые же месяцы по окончании курса в ней. Заключение в тюрьму было на политической почве: в ту пору для этого достаточно было иметь на столе К. Маркса или что-нибудь из Лассаля, быть в дружбе с кем-нибудь из "ходивших в народ с книжками".
Этого Михайлова я помню: белый, умеренно полный, благовоспитанный, спокойный. Безукоризненных успехов и поведения. Да и мой репетитор Н. А. Николаев не спускался ниже 2-го ученика, то есть был лучшим в своем классе, а в «поведении» тоже был довольно осторожен. Эта настороженность протеста и негодования вообще была «тоном» гимназии, обусловленным жестоким давлением сверху, бесцеремонностью и нечистоплотностью грозившей расправы. Но под льдом снаружи бежала тем более горячая вода внутри. Я не помню во все последующие годы, ни в нижегородской гимназии, ни в Московском университете, этой силы протеста, этой его определенности и упорства.
Было 11 часов ночи, когда пароход подвалил к Симбирску. Все собирались спать. Но я решился выйти.
Огни города были высоко-высоко над водою. Я знал «подъем» туда, на гору, по которому поздним вечером я подымался долго-долго, когда в 1871 году приехал сюда с братом учителем. Нечего и думать было взойти туда; для этого надо часы (взад и вперед). Но я решился все-таки сойти на берег.
Ничего не узнаю: все ново. Только вот этот огромный, сложный (зигзагами) въезд-подъем. Я оглянулся на пароход и пристань: да, это мостки к пристани такие длинные; они были и тогда, когда, бывало, мы с которым-нибудь товарищем или с моим любимым репетитором ходили на эту самую пристань "в гости" к отцу его, служившему на пароходной конторке. Это мы часто делали, раза два в месяц. И после длинного утомительного пути так-то, бывало, обрадуешься, когда завидишь эти мостки-сходни.
— Сейчас сядем, — и чай с малиновым вареньем.
На обратном пути взбираться было ой как трудно! А кругом, в верхних частях спуска, вишневые сады. Спуск был очень сложен и, кажется, «неблагоустроен» — ради чего можно было с главной дороги сойти в сторону и пробираться какими-то "сокращенными путями", которые на деле оказывались удлиненными, но зато более интересными, именно; попадались сады не огороженные или с совсем сломанным забором, в которые мы заходили "по пути" и совершенно невольно. Завидев здесь такую бездну вишен, какой нам в не случалось никогда видать дома или у себя в маленьких садах, вишен, по-видимому, никому не принадлежащих и во всяком случае не охраняемых, мы торопливо наполняли ими подолы рубашек, в то же время наполняя и рот. Не понимаю, как мы не отравились: ведь в вишнях содержатся крошечные дольки амильной кислоты, и если съесть их бездну, то отравишься. Но мы положительно съели бездну. Помню, один вечер мы так увлеклись, что и не заметили, как наступила ночь. Со мной был "Kropotini italio". Мы и не сумели бы выбраться из сада, решительно неизмеримого и стоявшего «где-то»; а главное, боялись поздно за полночь постучаться к своим грозным хозяйкам. Тогда мы решили переждать здесь ночь. Думали, так, проговорим. Но "объятия Морфея" (иначе не выражался о сне мой товарищ) потребовали себе жертвы. Между тем с каждым получасом становилось холоднее. И земля была холодна. Легли отдельно и рядом — холодно. А спать хочется. Мы сняли свои мундирчики и, сделав из них одеяло (пуговицы одного мундира в петли другого), покрылись сей импровизацией и, обнявшись, заснули, не потому, чтобы можно было так спать, а потому, что не могли не спать. Сила нашей молодой природы одолела силу внешней природы: и заснули, и не простудились. С солнышком — опять вишни и вожделенное "домой".

Книга Розанова «Уединённое» (1912) представляет собой собрание разрозненных эссеистических набросков, беглых умозрений, дневниковых записей, внутренних диалогов, объединённых по настроению.В "Уединенном" Розанов формулирует и свое отношение к религии. Оно напоминает отношение к христианству Леонтьева, а именно отношение к Христу как к личному Богу.До 1911 года никто не решился бы назвать его писателем. В лучшем случае – очеркистом. Но после выхода "Уединенное", его признали как творца и петербургского мистика.

«Последние листья» (1916 — 1917) — впечатляющий свод эссе-дневниковых записей, составленный знаменитым отечественным писателем-философом Василием Васильевичем Розановым (1856 — 1919) и являющийся своего рода логическим продолжением двух ранее изданных «коробов» «Опавших листьев» (1913–1915). Книга рассчитана на самую широкую читательскую аудиторию.
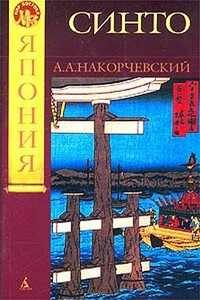
Слово «синто» составляют два иероглифа, которые переводятся как «путь богов». Впервые это слово было употреблено в 720 г. в императорской хронике «Нихонги» («Анналы Японии»), где было сказано: «Император верил в учение Будды и почитал путь богов». Выбор слова «путь» не случаен: в отличие от буддизма, христианства, даосизма и прочих религий, чтящих своих основателей и потому называемых по-японски словом «учение», синто никем и никогда не было создано. Это именно путь.Синто рассматривается неотрывно от японской истории, в большинстве его аспектов и проявлений — как в плане структуры, так и в плане исторических трансформаций, возникающих при взаимодействии с иными религиозными традициями.Японская мифология и божества ками, синтоистские святилища и мистика в синто, демоны и духи — обо всем этом увлекательно рассказывает А.

В Новгородских писцовых книгах 1498 г. впервые упоминается деревня Струги, которая дала название административному центру Струго-Красненского района Псковской области — посёлку городского типа Струги Красные. В то время существовала и деревня Холохино. В середине XIX в. основана железнодорожная станция Белая. В книге рассказывается об истории этих населённых пунктов от эпохи средневековья до нашего времени. Данное издание будет познавательно всем интересующимся историей родного края.
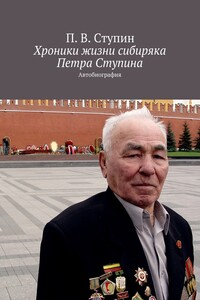
У каждого из нас есть пожилые родственники или знакомые, которые могут многое рассказать о прожитой жизни. И, наверное, некоторые из них иногда это делают. Но, к сожалению, лишь очень редко люди оставляют в письменной форме свои воспоминания о виденном и пережитом, безвозвратно уходящем в прошлое. Большинство носителей исторической информации в силу разнообразных обстоятельств даже и не пытается этого делать. Мы же зачастую просто забываем и не успеваем их об этом попросить.

Клиффорд Фауст, профессор университета Северной Каролины, всесторонне освещает историю установления торговых и дипломатических отношений двух великих империй после подписания Кяхтинского договора. Автор рассказывает, как действовали государственные монополии, какие товары считались стратегическими и как разрешение частной торговли повлияло на развитие Восточной Сибири и экономику государства в целом. Профессор Фауст отмечает, что русские торговцы обладали не только дальновидностью и деловой смёткой, но и знали особый подход, учитывающий национальные черты характера восточного человека, что, в необычайно сложных условиях ведения дел, позволяло неизменно получать прибыль и поддерживать дипломатические отношения как с коренным населением приграничья, так и с официальными властями Поднебесной.

Эта книга — первое в мировой науке монографическое исследование истории Астраханского ханства (1502–1556) — одного из государств, образовавшихся вследствие распада Золотой Орды. В результате всестороннего анализа русских, восточных (арабских, тюркских, персидских) и западных источников обоснована дата образования ханства, предложена хронология правления астраханских ханов. Особое внимание уделено истории взаимоотношений Астраханского ханства с Московским государством и Османской империей, рассказано о культуре ханства, экономике и социальном строе.

Яркой вспышкой кометы оказывается 1918 год для дальнейшей истории человечества. Одиннадцатое ноября 1918 года — не только последний день мировой войны, швырнувшей в пропасть весь старый порядок. Этот день — воплощение зародившихся надежд на лучшую жизнь. Вспыхнули новые возможности и новые мечты, и, подобно хвосту кометы, тянется за ними вереница картин и лиц. В книге известного немецкого историка Даниэля Шёнпфлуга (род. 1969) этот уникальный исторический момент воплощается в череде реальных судеб: Вирджиния Вулф, Гарри С.
