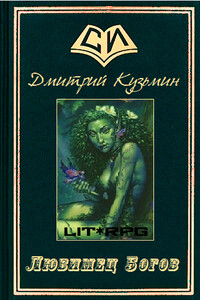Русский моностих: Очерк истории и теории [заметки]
1
В данной работе принята обычная для стиховедения система обозначений, при которой поэзия противопоставляется прозе и объединяется с нею в понятии «художественная литература»; противоположная терминологическая традиция, в которой «поэзия» объединяет стих и прозу и противопоставляется «не-поэзии», т. е. научным, деловым и т. п. текстам, отклонена в особенности по соображениям речевого удобства: там, где то и дело обсуждается отдельный стих, неудобно в то же время использовать слово «стих» как родовое понятие.
2
Кроме того, в промежутке между защитой первой редакции данного исследования в качестве диссертационного (2005) и завершением работы над настоящим изданием появилась еще одна диссертация на сходную тему – работа южно-сахалинского ученого Л.Н. Конюховой (Гринько) «Формально-содержательные модификации моностиха в русской литературе XX века», защита которой благополучно состоялась в Московском государственном университете. Из этого оригинального исследования можно узнать, что «как известно, строка имеет больший шанс быть признанной стихотворной при повторении ритмического ряда» [Конюхова 2009, 22], что «на данный момент в литературоведении отсутствует точная отнесенность моностиха к эпосу, лирике или лиро-эпосу» [Конюхова 2009, 64], что «объем слов в хокку не умещается в одну строку» [Конюхова 2009, 96], что «в рекламных слоганах лирический герой присутствует всегда. В большинстве случаев он совпадает с образом адресата» [Конюхова 2009, 113], что «Василий Розанов импонировал малым жанрам» [Конюхова 2009, 17], «Алексей Толстой и братья Жемчужниковы не были лишены поэтического дарования» [Конюхова 2009, 26], а Анна Ахматова «как мастер преимущественно поэтического дарования, обращалась к разнообразным силлабо-тоническим размерам» [Конюхова 2009, 23], и еще многое в том же духе, практически без изменений перекочевавшее в печатный вариант [Гринько 2011]. К сожалению, использовать эти и другие не менее оригинальные соображения Л.Н. Конюховой (Гринько), не смутившие ни научного руководителя Е.А. Иконникову, ни научных оппонентов О.И. Федотова и Д.М. Давыдова, а у рецензента С.И. Кормилова вызвавшие лишь мягкую укоризну («К сожалению, филологической аккуратностью Л. Гринько не отличается, допускает разного рода ошибки и опечатки» [Кормилов 2012b, 479]), нам в нашей работе не удалось.
3
Гомеса де ла Серну, конечно, называли «испанским Аполлинером» [Jackson 1963, 4], и интерес его к отцу западного моностиха Аполлинеру был велик [Laget 2012, 172 и сл.], но грегерии всё же возникли как прозаические миниатюры, хотя и влияли далее на испанскую поэзию, дав А. Веле основание заметить, что «технически <испаноязычная> авангардная поэзия – соединение грегерий со строфикой, с аллитерацией, с повтором и возвращением» [Vela 1949, 313]; сам Гомес де ла Серна мимоходом назвал свои грегерии «хайку в прозе» [Laget 2012, 262]. Представление о грегерии как о стихотворной миниатюре и, у́же, моностихе не встречается в специальной литературе о грегериях и Гомесе де ла Серне и возникает лишь мельком в нескольких маргинальных работах ([Мартысевiч 2006, 17; Дабески 2007, 69] – во втором случае в рамках своеобразной идеи о том, что «потенциальным моностихом» является любой литературный текст объемом до 30 слогов [Дабески 2007, 64]).
4
Справедливости ради отметим, что генерализации подобного рода выглядят неубедительно не только на русском материале: ср., например, рассуждения австралийского литературоведа А. Ализаде (в связи с книгой моностихов его соотечественника Йена МакБрайда) о том, что «в наше время “смерти поэзии”, “конца стихотворного текста” и т. п. поэты – даже высокоодаренные и вполне признанные – вынуждены маскировать свои стихи под цитаты и удобные для потребителя (user-friendly) звуковые обрывки ‹…› и в итоге утверждать нигилизм эсхатологического дискурса» [Alizadeh 2006].
5
Англ. monostich, франц. monostiche и monostique, ит. monostico, исп. и порт. monóstico, нем. Monostich – впрочем, употребительны также англ. one-liner и нем. Einzeiler, на которые, возможно, В.Ф. Марков и ориентировался.
6
Или вообще в ином значении: так, А.Б. Гатов называет одностроками полностью законченные синтаксически и семантически строки многострочного стихотворения [Гатов 1966, 50], а М.А. Литовская – относительно изолированные и достаточно краткие для того, чтобы в любом издании предположительно не выходить за пределы одной строки, фрагменты прозаического текста, обладающие определенной содержательно-композиционной автономией [Литовская 1999, 492, 501].
7
А придуманный, как утверждается, по его просьбе Г.Ч. Гусейновым [Гусейнов 2009, 145].
8
А о том, как далеко может заходить терминологическая неразбериха, можно судить по появлению в некоторых работах (например, [Александрова 2005, 40–41]) никак не комментируемого термина «монострок».
9
Ср. замечание поэта Бориса Гринберга: «“Удетерон” или, скажем, “однострок” выбрасывают этот жанр из чисто поэтического пространства в общелитературное, смешивая со множеством, мягко выражаясь, “прозаических” произведений» [Блиц-интервью 2009, 169].
10
Эпизодическое употребление С.О. Карцевским термина «моностих» в другом значении (астрофический метрически однородный стих) [Trubeckoj 1985, 259] не создало конкурирующей традиции. Термин «одностишие» мы традиционно используем для однострочных стихотворных фрагментов, не являющихся самостоятельными произведениями (в этом значении термин «моностих» в русской научной литературе практически не употребляется – «строфа-моностих» встретилась нам лишь однажды [Налегач 2010, 49]; в зарубежной науке, однако, «моностих» в значении «изолированный стих» иногда возникает: см., напр., [Aroui 1994; Meyer 1996, 272; Янечек 2002, 36; Ичин 2006, 11; Соколова 2010, 184–185, Hirsch 2014, 390]).
11
Да и вообще «введение произведений авторов второго ряда в литературоведческий обиход необходимо для воссоздания единой картины развития литературы ‹…›, в которой фоновые литературные явления значимы для выявления тенденций эстетического развития» [Тернова 2012, 5].
12
Опасная вещь – статистика! Таким же образом, надо полагать, «практически нет» множества разных литературных форм – от палиндрома до венка сонетов.
13
Ср. в другой работе Бурича: «Умение писать свободным стихом – это умение членить текст на фразы и синтагмы, обозначая их графически» [Бурич 1989, 159].
14
«Упорядочение синтаксического строения составляет… основу композиционного членения свободного стиха» [Жирмунский 1921, 90].
15
Полемика со стиховедческой концепцией Бурича в целом не входит в наши задачи, но нельзя не отметить, что и в других своих частях она методологически некорректна: так, например, невозможно согласиться с утверждением Бурича о том, что «корреспондированность» строк в рифмованных стихах «абсолютна» (однозначно задается рифмой), а в нерифмованных «относительна» («любая строка может быть сопоставлена с любой последующей») [Бурич 1989, 151], – прежде всего потому, что абсолютный характер имеет в стихе корреспондированность каждой строки с предыдущей как частный случай общего принципа «сукцессивности» [Тынянов 1993, 49], последовательности разворачивания стихотворного текста.
16
В других трудах Гаспарова определение стиха совпадает с этим практически дословно (напр., [Гаспаров 2003b, 7–8]).
17
На эту односторонность бегло указывает Э. Клейнин [Kleinin 2008, 209], в дальнейшем интересном анализе гаспаровских подходов к определению стиха фокусирующая внимание на других аспектах.
18
«Графика <поэтического текста> выступает не как техническое средство закрепления текста, а как сигнал структурной природы…» [Лотман 1970, 132].
19
Это понимание непосредственно восходит к идеям учителя Токарева А.Л. Жовтиса, определявшего стих через то, что «в нем обнаруживается корреспондирование рядов, графически выделенных авторской установкой на стих» [Жовтис 1968, 35]. Однако в целом представление о строке как статическом кванте смысла и о динамике стихотворения исключительно как о движении от стиха к стиху имеет своих сторонников (скорее среди эстетиков, чем среди стиховедов) – ср., напр.: «В своей прототипической форме стихотворение короткое потому, что оно является обзорным, синоптическим, подобно картине, а его содержание должно восприниматься как отражающее одно состояние дел. ‹…› Что верно для стихотворения в целом, верно и для его частей. Визуальная автономия каждой строчки в какой-то степени выделяет ее из целостности общей последовательности и представляет ее как ситуацию внутри ситуации» [Арнхейм 1994, 109–110].
20
Именно Москвин доводит противопоставление горизонтального и вертикального ритма до абсолюта, объявляя стихообразующим фактором «членение речи на сегменты одинакового слогового объема» (вертикальный «силлабический ритм») [Москвин 2009, 15] и отказывая в определительном статусе «симметричному чередованию ударных и безударных слогов» (горизонтальный «изотонический ритм») [Москвин 2009, 13, 135]. Об эклектизме концепции Москвина и его невнимании к новейшей теоретической базе отечественного стиховедения см. [Корчагин 2014].
21
Позиция же Томашевского, в свою очередь, опиралась на ряд аналогичных идей зарубежных специалистов – например: «Одиночный стих представляет собой не что иное, как предполагаемый ритм (rythme proposé). Только повтор создает ритм действительный (effectif)» [Romains, Chennevière 1923, 133]. Подробный перечень такого рода заявлений раннего стиховедения приводится в [Devoto 1980].
22
И, независимо от него, К.Ю. Тверьянович и Е.В. Хворостьянова, предлагающие «условно относить к удетеронам (в отличие от моностихов, – Д.К.) все однострочные произведения, структура которых не может быть идентифицирована ни с одним из силлабо-тонических размеров» [Тверьянович, Хворостьянова 2008, 38].
23
Похоже, что к этой же позиции склоняются и некоторые зарубежные исследователи – так, во Франции о невозможности отличить от прозы любой моностих, кроме написанного александрийским стихом, писал, в частности, Л. Брейниг [Breunig 1963, 322], а вслед за ним и Жак Жуэ [Jouet 1996] – впрочем, годом позже выпустивший книгу собственных моностихов, отстоящих в ритмическом отношении от александрийского стиха настолько далеко, насколько это возможно.
24
Заметим, между прочим, что интерпретация текста Сельвинского – «Лучше недо, чем пере». – как трехиктного нисходящего дольника по меньшей мере проблематична: ничуть не менее, если не более правомерной выглядит представление этого стиха как двухстопного анапеста со сверхсхемным ударением на первой стопе, поскольку при такой интерпретации фразовое ударение определенно будет падать на «недо», а не на «лучше».
25
Не вдаваясь в новейшие тенденции соотнесения метрической стопы с фонологической, отметим, что с семиотических позиций фактически реабилитирует понятие стопы М.Ю. Лотман [Лотман 1974, 183], позиция которого вообще весьма близка к позиции Панова. В связи с этим вызывает удивление идущее от П.А. Руднева [Руднев 1989, 48–49] сближение стиховедческой концепции М.Ю. Лотмана со взглядами Б.Я. Бухштаба, напротив, это понятие решительно отвергавшего [Бухштаб 1973, особенно 106–107], – при том, что (и это нередко упускалось ссылавшимися на Бухштаба последующими теоретиками) конституирующая поэзию по Бухштабу «двойная сегментация» включает в себя «членение на стихотворные строки и на более крупные и мелкие, чем строка, стиховые единства» [Бухштаб 1973, 110], т. е. к графической расчлененности не сводится. Подробное изложение теоретических взглядов М.Ю. Лотмана в [Лотман 2000] не содержит никаких упоминаний о моностихе, однако понимание им свободного стиха как стиха с фразовой стопой не оставляет, по-видимому, места для неметрического моностиха; впрочем, само понятие метра М.Ю. Лотман трактует весьма широко и даже допускает возможность «непросодического стихосложения» [Лотман 2000, 242–249], в котором в роли метрических единиц выступают определенные синтаксические и даже семантические единства (ср. [Koch 1966, 20]), – так что даже очевидно неметрические в традиционном понимании тексты могут быть так или иначе вписаны в предложенную им классификацию: например, моностих Александра Карвовского «Великие загадки»:
– с точки зрения «семантической просодии» очевидным образом двустопен.
26
Ср., например, у Ю.М. Лотмана: «Повторение разных элементов в одинаковых позициях с тем, чтобы приравнять неравное и раскрыть сходство в различном, или повторение одинакового с тем, чтобы раскрыть мнимый характер этой одинаковости, установить отличие в сходном» [Лотман 1972, 45]. Отказ от понимания повтора как позиционного явления, приводящий к попытке «различать повтор и мерность речи, основанную на ее расчлененности» [Москвин 2009, 13], представляется нам умножением сущностей без необходимости.
27
Можно сказать иначе: не бывает строк, «не подходящих ни под один из известных размеров или типов», поскольку строка любого устройства может быть структурно воспроизведена, и этот повтор, в зависимости от своего характера, в тот или иной размер или тип (не обязательно в верлибр – возможно, в тонический, силлабический или логаэдический стих) ее поместит.
28
Возможно, впрочем, что сам Марков и не додумывал эту свою мысль до логического конца: характерно, что позднейший сборник его стихов (Мюнхен, 1984) называется «Поэзия и одностроки» – и это мало чем отличается от использованного Буричем заголовка «Стихи и удетероны».
29
Несколько курьезную вариацию этого подхода можно увидеть еще и в беглом замечании С.В. Шервинского: «Принципиально стих может быть квалифицирован как таковой даже в изолированном положении… Напомню последнее стихотворение из цикла Верлена “Sagesse”. Оно состоит из одного стиха, но едва ли кто-нибудь станет сомневаться, что создатель этой строки понимал ее как стих (выделено мною, – Д.К.)» [Шервинский 1962, 622]; авторское намерение, в конечном счете, также является внешней по отношению к самому тексту силой, «наделяющей стиховым качеством». Однако методологическое «предостережение от смешения двух задач: задачи осмысления внутренней целесообразности художественного объекта (произведение как таковое, осознанное как единство, – “феноменология творчества”) с задачею раскрытия психологического процесса его создания (авторская работа и все причины, обусловливавшие рождение произведения, – “психология творчества”)» [Скафтымов 1972, 23–32], кажется, сегодня уже не нуждается в дополнительной аргументации. По поводу строки Верлена см. стр. 64–65.
30
Позднее М.И. Шапир отказался от ряда положений этой статьи, переопределив стих как речь, характеризующуюся наличием «сквозных принудительных парадигматических членений» [Шапир 2000c, 61] (при существенном различии терминологии близость этой концепции и концепции М.Ю. Лотмана из [Лотман 2000] заметна: сопоставительный анализ этих двух теоретических систем представляется многообещающим). Новая концепция Шапира в целом, будучи, безусловно, этапной для современного стиховедения, вызывает и некоторые вопросы и сомнения, для которых в рамках данной работы нет места. Заметим лишь, что Шапир не ставит вопроса о том, как распознать стихотворность однострочного текста, так что вопрос о том, в какой мере высказанные в настоящем разделе соображения коррелируют с идеями Шапира и дополняют их, а в какой – противоречат им, требует отдельного выяснения.
31
К этому пониманию отношений между ритмом и метром склоняется и ряд зарубежных специалистов – ср., например, у Ч. Хартмана о метре как «счетном (numerical) ритме» и просодиях, основанных на несчетных разновидностях ритма [Hartman 1996, 17–25].
32
Следует, впрочем, оговориться, что речь идет только об элементах звучания, так или иначе закрепленных в языке (ср. возражения Ю.Н. Тынянова против включения в состав поэтического ритма агогики, т. е. речевых колебаний длительности языковой единицы [Тынянов 1993, 40]). С другой стороны, неоднократно подчеркивалось, что безусловно являющиеся важным ритмическим фактором словоразделы могут быть акустически не выражены; возможно, это обстоятельство требует реабилитации, в несколько переосмысленном виде, использовавшегося Е.Д. Поливановым термина «фонетические представления» [Поливанов 1963, 106]. Ср. также у Ж. Женетта: «“Звуковые” эффекты могут восприниматься и беззвучно… Вся теория просодии должна быть пересмотрена с этой точки зрения» [Женетт 1998, I:340].
33
Принадлежащая метру прерогатива предсказующей функции обнажает то обстоятельство, что цитированная выше позиция М.Л. Гаспарова исходит, по сути, из редукции Ритма к метру (об этой тенденции в разных работах Гаспарова подробно пишет М.И. Шапир в [Шапир 1996]).
34
Это широкое определение оставляет открытым вопрос о семантическом ритме, не связанном непосредственно со звуковой стороной текста (краткий обзор вопроса в [Москвин 2009, 10–11]), – ср. «непросодическое стихосложение» (прим. 25 на стр. 23). Вообще такое понимание Ритма противостоит не только редукционистским узко-стиховедческим концепциям, но и радикальной «критике ритма» А. Мешонника, понимающей давление ритма на семантику как универсалию языковой деятельности («ритм, собственно, и есть организация смысла в речи» [Meschonnic 1982, 217]), – при том, что борьба Мешонника с абсолютизацией метрики, за признание структурообразующими неметрических звуковых построений (см., напр., разбор аллитерационных и паронимических конструкций в одном стихе Расина [Meschonnic 1982, 252 и сл.]) близка к пафосу настоящей работы.
35
См. подробнее стр. 130. Ср. также замечание Р. Барта о том, что в состав «феноменологии стиха» входит окружающее его свободное пространство, которое привлекает и отвлекает [Barthes 2003, 57], и мысль Ж. Женетта, непосредственно подводящую к понятию о сигнальной функции свободного поля вокруг текста как универсальном свойстве поэзии: «даже далее всего ушедшая от традиционных форм поэзия не отказывается ‹…› от такого мощного средства помещения текста в стихотворный ряд (la puissance de mise en condition poètique), как его размещение среди свободного пространства страницы (la disposition du poème dans le blanc de la page)» [Genette 1969, 150] (в русском издании переведено неверно: «… не отказывается ‹…› от использования пробелов при расположении стихотворения на странице в целях достижения поэтического эффекта» [Женетт 1998, I:360]), – фактически это не совсем так (иной раз и отказывается), но в принципиальном плане нам важно, что, как и в других случаях, графическая выделенность однострочного стихотворения не столько противопоставляет его многострочным, сколько в наиболее концентрированном виде предъявляет нечто характерное и существенное для любых стихов.
36
Имея в виду предпочтительность расширительного толкования понятия «текст», лучше, возможно, использовать другой вариант введенного Тыняновым термина – «эквиваленты слова» [Тынянов 1993, 298].
37
Но поскольку, как заметил Ю.М. Лотман, «если автором и читателем осознаётся некий минимум признаков, без которого текст перестает восприниматься как стиховой, то поэт будет стремиться ‹…› переходить эту черту» [Лотман 1972, 41] (см. также [Житенёв 2012, 19] о сформированном в XX веке «неклассическом художественном сознании», представляющем собой «принципиальный отказ от “финализма”, от всех “ставших” и “готовых” форм ‹…› художественной практики»), – постольку на протяжении всего ХХ века создавались «поэтические тексты», составленные исключительно из эквивалентов слов, – начиная со знаменитой «Ночной песни рыб» Кристиана Моргенштерна (1905; об идеологической фундированности его экспериментов философией «критики языка» Фрица Маутнера см. [Ерохин 2010]). Тынянов упоминает «немецкого футуриста Kulk`а, выпустившего в 1920 г. книгу стихов, ограничившихся графическим стиховым расположением знаков препинания» [Тынянов 1993, 111] – это, судя по всему, ошибка: австрийский поэт Георг Кулька (1897–1929), примыкавший к экспрессионизму, в самом деле выпустил в 1920 г. книгу стихов «Сводный брат» (Der Stiefbruder), но пределом формальной смелости в ней было стихотворение с точкой после каждого слова [Sauder 1982], – так что в полной мере эксперименты с текстами из одних знаков препинания развернулись уже во второй половине столетия, вплоть до многочисленных опытов Ры Никоновой («В 1965–1969 гг. я страшно увлекалась минимализмом – писала стихи из двух слов и даже из одного, и даже из одной буквы, и даже из каллиграфических элементов отдельных букв, не говоря уж о таких бижутерийных элементах, как точка, запятая и прочие полиграфические прелести» [Никонова 1993, 253]). См. также [Кузьмин 2000]. Статус всех этих текстов дискуссионен, но стихотворными они не являются по причине невербальности.
38
Иного мнения придерживается, по-видимому, Дж. Янечек, говорящий об «однословных стихотворениях» Всеволода Некрасова; впрочем, Янечек видит здесь проблему, аргументируя свое решение таким образом: «Учитывая заметную сосредоточенность на средствах выражения, я бы отнес эти вещи Некрасова к стихотворениям, а не к другим литературным категориям (category of literature), но, возможно, это спорно» [Янечек 1997, 250; ср. Janecek 1992, 408]. Под «средствами выражения», однако, понимается здесь не пресловутое «слово как таковое», а, в сущности, расположение слова (или слов) на листе бумаги и дополнительные графические элементы; в связи с этим спорным является не столько отнесение «минимализмов» Некрасова к стиху, а не к прозе, сколько сама их «литературность». Представляется, что гораздо правомернее рассматривать эти тексты как произведения визуальной поэзии – отдавая себе отчет в том, что слово «поэзия» в названии этого синтетического словесно-визуального искусства указывает не на стихотворность, а на присутствие вербального начала (ср. стр. 45).
39
Сам Бурич говорит, среди прочего, об удетеронах «моносиллабических» и «моностопных» [Бурич 1989, 147–148], из которых первые с неизбежностью, а вторые с большой вероятностью оказываются однословными, однако этот аспект проблемы Бурич не рассматривает, интересуясь исключительно акцентологической стороной дела.
40
Для самого Ле Лионне, впрочем, этот вопрос был риторическим – заданным в комментарии к собственному тексту под названием «Стихотворение из одного слова»:
[Ou. li. po 1973, 174]
– утверждается, что именно на это одно слово выбор Ле Лионне пал в связи с тем, что его начальная и конечная буква представляют собой инициалы автора [Bénabou 2007, 17]. Подробнее об однословных текстах см. стр. 46–49.
41
«Пуля, попавшая в птицу, прекращает свой полет» – ср. известное стихотворение Ивана Жданова: «Когда умирает птица, / в ней плачет усталая пуля, / которая так хотела / всего лишь летать, как птица» [Жданов 1991, 18].
42
Впрочем, кроме последнего текста, где финальное слово ушло во вторую строку. Учитывая, что абзацный отступ при этом отсутствует, а длина этого текста несколько превосходит длину трех предыдущих, мы склонны интерпретировать эту двустрочность как ошибку верстки, точно так же не мешающую реализоваться установке на стих, как этому не помешал такой же дефект верстки при первой публикации моностиха Карамзина (см. стр. 27–28).
43
С.И. Кормилов также анализирует этот цикл, однако его выводы кажутся неудовлетворительными: не принимая во внимание общий контекст «Антологии русского верлибра» (т. е. стихотворный), он полагает, что в контексте цикла малой прозы даже метричность одного из текстов не оказывается достаточной, чтобы в тексте проявилась контекстно обусловленная стихотворность. Присутствие в тексте явно выраженного двустрочного стихотворения Кормилов не комментирует, резюмируя анализ странной фразой: «Видимо, в современном поэтическом сознании “свобода стиха” уже переросла рамки собственно стихового ритмического ощущения» [Кормилов 1995, 79].
44
Строение этого цикла осложняется тем, что наряду с миниатюрами прозаическими (афоризмы) и поэтическими (от моностиха до четверостишия) в него включены парафразы и имитации фольклорных малых жанров (пословицы, скороговорки), атрибуция которых как стиха или прозы представляет особого рода трудности.
45
Здесь и далее перевод стихотворений и прозаических цитат наш везде, где не указано иное; иноязычный оригинал приводится только в тех случаях, когда для изложения важны те или иные его особенности, невоспроизводимые в переводе.
46
Текст построен на игре слов: «Может быть, вы знали Блисса под другим именем» – в самом деле, типичная фраза из шпионского романа, но фамилия персонажа может быть переведена как Счастье, Блаженство.
47
Ср. также анализ формального метода в литературоведении (в том числе тыняновской теории стиха) в последующей теоретической (в том числе семиотической) перспективе у О. Ханзена-Лёве [Ханзен-Лёве 2001, 294–326].
48
Для Червенки ритмическими являются только факторы, обладающие предсказующим действием, то есть Ритм сводится к метру, тогда как «инструментовка в стихе в большей степени действует как фактор ритмической дифференциации, нежели как один из носителей ритма» [Червенка 2011, 248], и в этом отношении Червенка делает шаг назад сравнительно со своим учителем Я. Мукаржовским, отмечавшим, что «хотя эвфония кажется наиболее внешним элементом поэтического текста, как и всякий иной элемент, она может играть роль структурной доминанты, то есть элемента, который приводит в движение все остальные элементы и определяет меру их актуализации» [Мукаржовский 1996, 94]; по-видимому, это отступление связано с представлением об особой стиховой интонации как основном языковом выражении стихового ритма [Червенка 2011, 152–157], – представлением, акцентирующим выбор в пользу эйхенбаумовской, а не тыняновской парадигмы.
49
В частности, представляют особый интерес различные способы рассогласования установки и сигналов, историческая изменчивость установки (ср., по Ю.М. Лотману, изменение произведения при неизменности текста [Лотман 1964, 157]), и др.
50
Согласимся, однако, с важным дополнением В.Ф. Маркова: «Ямбическая строка ощущается как ямбическая не только на фоне других напечатанных, но и воображаемых» [Марков 1994, 349].
51
На возможность «ритма вне метра» указывал еще А. Белый (см. [Шапир 1990, 81–82]).
52
Следует отметить, впрочем, что анализ Вендлер перекликается с получившим в это же время распространение в американской литературно-критической мысли представлением о собственной выразительности отдельного стиха вообще, а не только самостоятельного моностиха, – ср., например, замечание Э. Фултон, автора концепции «фрактальной поэзии», о том, что «каждая строка, как обнаруживается при ближайшем рассмотрении, столь же богато отделана (detailed), сколь и целое стихотворение, из которого она взята» [Fulton 1999, 58].
53
Своеобразным подтверждением соображений Озмителя «от противного», близким если не по предпосылкам, то по методу и к Вендлер, выступает более раннее замечание А.И. Мамонова, обсуждающего однострочные тексты в японской модернистской поэзии 1920-х гг. и приходящего к выводу, что их отличие от прозы полностью лежит в сфере образности: «выпуклость и многогранность образа мира достигается еще и особой связью слов в стихотворениях, подчиненной идее: стих – это скульптура»; сопоставляя моностих Субботина с японскими аналогами, Мамонов указывает: «Впечатляющая образность этого стихотворения бесспорна. И если снять инверсию (“окоп копаю”), тем самым разрушив строгий метр (пятистопный ямб), которым написано стихотворение, сходство строки-стиха с японскими прозаическими танси окажется стопроцентным» [Мамонов 1971, 119].
54
Впрочем, возможность или необходимость опираться при анализе звукового строя стиха не только на фонемный, но и на графемный состав текста находилась в поле зрения специалистов: см. [Червенка 2011, 238–239] и [Ляпин, Пильщиков 2013, 57–58] с указанной литературой.
55
А Р. Барт, напротив, специально указывает, что взаимосвязь между ними не стоит преувеличивать – апеллируя, однако, не к формальному, а к содержательному различию [Barthes 2003, 100, 131].
56
Девятисложник в ней крайне редок, а если и встречается, то требует цезуры после мужского окончания в третьем, четвертом или пятом слоге; ритмико-синтаксический профиль, представленный в этой строке Ренара, современное ему стиховедение квалифицировало как характерный для итальянских и испанских девятисложников и невозможный для французских [Tisseur 1893, 119–121].
57
В русском переводе Агнессы Коган эти эффекты сглажены:
СВЕТЛЯЧОК
[Ренар 2003, 82]
58
Здесь будет уместно заметить, что конкретная трактовка М.Ю. Лотманом поэзии как вторичного кода достаточно небезусловна, однако для нас принципиальное значение имеет сама интерпретация разнохарактерных литературных текстов в этих категориях.
59
Авторство этого монопалиндрома оспаривается: составителем авторитетной «Антологии русского палиндрома XX века» В.Н. Рыбинским принят приоритет Ильи Фонякова [АРП 2000, 159], тогда как А.В. Бубнов указывает на приоритет Владимира Гершуни [Бубнов 2000, 41]. Для нескольких наиболее известных русских монопалиндромов эта ситуация типична.
60
Оба термина не слишком удачны, поскольку и формальные ограничения, и, тем более, комбинаторный принцип являются, прежде всего, непременными свойствами стиха.
61
В более ранней авторской книге, впрочем, в две строки [Авалиани 1995, 4], что и логичнее для этого типа текстов.
62
И.В. Чудасов справедливо отмечает сходство этой игровой формы с известным моностихом Даниила Хармса [Чудасов 2010, 38] (см. стр. 175).
63
Аутентичное написание данного текста – в авторском сборнике Кирсанова [Кирсанов 1993, 63]; здесь же еще несколько «фигурных моностихов».
64
Грань между визуальностью как самостоятельным кодом и визуальными эффектами стихового кода – тонкая, но вполне поддающаяся определению, и нельзя не согласиться с С.В. Сигеем, что «необходимо строгое различение именно визуальной поэзии и визуализации стиха» [Сигей 1991, 10]. Осторожно предположим, что воспользоваться при этом следует тем же принципом, который обсуждался выше для палиндрома: в произведениях визуальной поэзии визуальный код нейтрализует различие между стихом и прозой.
65
И уж никак не подтверждается предположение Э.М. Береговской о том, что «случаи, когда текст сводится к одному слову, возможны только в рамках визуальной поэзии» [Береговская 2002, 129].
66
Текст вошел в состав изданной в 1969 году антологии современной американской литературы, составленной известным литературтрегером Джорджем Плимптоном, и его автор, как и все другие участники антологии, получил от Национального фонда поддержки искусств гонорар в 500 долларов. Группа политиков инициировала в связи с этим слушания в Конгрессе США о разбазаривании Фондом государственных денег, Плимптон, в свою очередь, отправился в избирательный округ лидера этой группы агитировать против его избрания на новый срок, и т. д. [Daly 2007]. Буря возмущения в провинциальных американских газетах не может не вызвать ассоциаций со шквальной реакцией российской прессы на моностих Валерия Брюсова (см. стр. 125–128), вплоть до негодующих читателей, заявляющих о том, что придуманное ими ответное однословное стихотворение «darark» ничуть не хуже оплаченного из кармана налогоплательщиков шедевра [Fowler 1970, 63].
67
Далее Граммен подразделяет ее еще на несколько разрядов (ср. прим. 359 на стр. 232 и стр. 352), из которых текст Сарояна относится к самой сложной разновидности – «азбуконцептуальной» (alphaconceptual).
68
См. также обсуждение маргинальных в этом отношении текстов Александра Галкина и Василия Каменского на стр. 150–154 – особенно прим. 246.
69
Couvre-feu, «Затемнение» в русском переводе Мориса Ваксмахера.
70
Некоторые из них выглядят небесспорными: так, при квалификации как написанного однострочной строфой стихотворения Володимира Свидзинского «Дочка Билитиды» В.А. Соколова апеллирует только к графике текста (в собрании сочинений, составитель которого заявил о сохранении графических особенностей оригинала) [Соколова 2010, 184], но совершенно не учитывает его метрику (между тем стихотворение написано элегическим дистихом).
71
Стремление придать еще больший вес изолированному стиху приводит некоторых авторов к специальным приемам: так, Мария Каменкович часто отделяет его звездочками от остального текста [Каменкович 1996] (в большинстве случаев этот стих оказывается композиционно маркированным – первым в стихотворении либо последним; ср. чуть ниже соображения В.С. Баевского).
72
В новейшее время справедливо и обратное: так, Р. Гилберт, констатируя растущее количество публикаций с удвоенным интерлиньяжем в американской поэзии 1990-х гг., отмечает, что образцом (underlying paradigm) для такого графического решения выступают моностих и (существующая в тексте на фоне строф другого объема) однострочная строфа [Gilbert 2001, 245]; об однострочной строфе в своих стихах как следствии пристального внимания к моностиху пишет американская поэтесса Кимико Хан [Hahn 2011, 116].
73
Ср. также замечание И.Р. Гальперина о том, что – без учета стихотворной специфики – в неозаглавленных текстах «первое предложение ‹…› осуществляет функцию заголовка» [Гальперин 1981, 5].
74
Устное сообщение И.В. Кукулина.
75
Разумеется, попытки апеллировать к элементам книжной презентации текста при анализе его структуры несколько рискованны (см. методологическое осмысление проблемы в [Зубков 1996]). Поскольку совершенно игнорировать эти элементы в нашем случае невозможно, мы исходим из двух здравосмысленных посылок. Первая – презумпция значимости любого отклонения от полиграфического канона: применительно к данному случаю, графическое выделение первого знака – буквицы – относительно обычно, первого слова – в русской традиции менее обычно и несет на себе налет архаики либо ориентации на западные образцы (впрочем, часто использовалось Ниной Искренко; см. также о характерном примере этого приема в стихах Анны Горенко: [Давыдов 2002, 203]), первой строки или стиха – выглядит достаточно нетрадиционым. Вторая – презумпция присутствия авторской воли в презентации текстов в прижизненном авторском сборнике (в отличие от альманахов, журналов и т. п., для которых это не столь очевидно). Эти допущения оставляют определенный простор для дальнейшего анализа проблематичных случаев: например, в книге Михаила Сапего «Просто так» [Сапего 1994] каждый стих напечатан на отдельной странице, оказываясь выделенным, обособленным; однако характер оформления книги художником В. Голубевым, а также то обстоятельство, что в конце книги весь текст приведен целиком на одной странице, заставляют предположить, что в данном случае указанное решение принадлежит художественной концепции издания, а не авторской концепции текста. Показателен также пример четырех стихотворных сборников (Дины Гатиной, Михаила Котова, Ксении Маренниковой и Татьяны Мосеевой), вышедших в 2005 году и объединенных единым графическим решением: экзотическим для современного поэтического книгоиздания полужирным выделением последнего стиха в каждом тексте; из того, что этими четырьмя книгами издательство «АРГО-РИСК» открыло новую книжную серию «Поколение», можно сделать вывод, что нестандартная графика была не частью авторской поэтики, а элементом издательского дизайна.
76
Некоторые другие примеры, привлекаемые Пардо для размышлений о большей самостоятельности отдельных стихов в стихотворном тексте, вызывают недоумение – например, интерпретация восьми подряд заканчивающихся точкой стихов в одном из стихотворений Пабло Неруды как переноса в поэзию драматургического приема стихомифии (суть которого, однако, не столько в краткости следующих друг за другом реплик – на раннеантичной стадии, в самом деле, равных одному метрическому стиху [Фрейденберг 1997, 164], – сколько в том, что их бросают разные персонажи, чего у Неруды нет); еще удивительнее попытка сблизить со стихомифией цепочки последовательных стихов, связанные анафорой или структурным подобием, то есть как раз не изолированные, а сильнее сопряженные друг с другом [Pardo 2004, 226–229].
77
Ср. замечание А.К. Жолковского о том, что между этой строкой и следующей происходит контрастное переключение нескольких регистров письма [Жолковский 1994, 56].
78
Любопытно, что С.Е. Бирюков, излагая эту мысль Маркова, оговаривается, характеризуя все «стыдливые одностроки» как «начальные строки стихотворений, которые ‹…› не требуют продолжений» [Бирюков 1994, 57], хотя некоторые примеры Маркова взяты и из середины стихотворений; вероятно, эту оговорку можно счесть бессознательным подтверждением мысли В.С. Баевского об особом статусе первой строки. Ср. также проведение той же мысли в художественном тексте (рассказе Евгения Шкловского), от лица переживающего творческий кризис поэта: «Он даже начал подумывать, не перейти ли ему вообще на жанр моностиха: в конце концов, любое начало известных шедевров ничуть не хуже целого стихотворения и вполне может существовать как самостоятельное произведение. Ну, например: “Я встретил вас – и всё…”, “Средь шумного бала, случайно…”, “Я полюбил науку расставаний…”, “Снег идет, снег идет…”…» [Шкловский 2004, 185]. Сюда же – мысль поэта Юрия Беликова про начальную строку стихотворения Сергея Есенина «Отговорила роща золотая» как «образовавшийся моностих, уходящий в поговорку» [Блиц-интервью 2009, 165].
79
Ср. также: «Часто оказывается, что поэзия действительно концентрируется в отдельных частях стихотворного текста, иногда – лишь в нескольких строчках или даже словах; в то время как все остальное работает как “описание контекста”, “объяснение”, дань формальным нормам или связности изложения. Все эти дополнительные элементы на самом деле являются не-поэзией. В этом смысле и моностихи и хайку можно отнести к наиболее поэтичным формам текста, поскольку наличие в них не-поэзии может быть сведено к минимуму» [Андреев 1999, 342]. Этот ход мыслей в XX веке становится настолько очевиден, что его воспроизводят даже те литераторы, кто не только не пишет моностихов, но, похоже, и не знает про них: «Иногда поэты задумывались, а не следовало бы остановиться, написав первую строку, словно бы посланную с неба. Зачем добавлять вторую, которая обычно дается с трудом, ценой всех капризов и случайностей, навязываемых рифмой? ‹…› Если такие однострочные стихи восхищают нас в записках и черновиках поэтов, издаваемых после смерти авторов, то почему не закрепить за моностихами право на самостоятельное существование? Однако никто из поэтов на это не отваживался…» [Парандовский 1982, 230] Образ «первой строки, словно бы посланной с неба», отсылает, вероятнее всего, к словам Поля Валери о том, что «боги, по щедрости своей, даруют нам первый стих просто так; но наше дело выделать второй, чтобы он был созвучен первому и не оказался недостоин своего чудотворного старшего брата» [Valéry 1957, 482].
80
О дейктических указателях как препятствии для автосемантичности (самостоятельности) фрагмента см. [Гальперин 1981, 100–101].
81
Судя по проговорке «почти спелось», Иваск и придуманный им Иванов помнят строчку Тургенева (хоть и в искаженном виде) отнюдь не из стихотворения Блока «Седое утро», к которому она взята эпиграфом, а по знаменитому романсу Эраста Абазы.
82
Любопытно, что приводимые Ваншенкиным строчки заметно различны – и если, например, строка Николая Ушакова
в принципе способна к автономному существованию, то пушкинский стих
приобретает смысл именно в контексте стихотворения «Виноград» – но, по не вполне проговоренному подразумеванию Ваншенкина, заметно удачнее своих соседей.
83
Первые известные нам украинские моностихи были опубликованы Линой Костенко почти на 30 лет позже [Костенко 1993]. Изредка встречающаяся интерпретация имеющего фрагментарно-монтажную структуру стихотворения «Из зеленых мыслей одного лиса» (1936) Богдана-Игоря Антонича как свободного собрания независимых друг от друга стихотворных заметок (и, в том числе, моностихов) – см., например, [Науменко 2012, 336], – кажется, не имеет под собой серьезных оснований.
84
Любопытно, что Шеаде приводит все строки по памяти (указано в редакционном послесловии), располагает по одной на странице и не указывает авторов (принадлежность отдельных строк дана в конце книги) – формируя тем самым своеобразный новый текст центонного характера. Таким образом, замечание Ж.Л. Жубера о том, что для Шеаде одинокие строки и вне изначального стихотворного контекста «сохраняют полномочия стиха» (conservaient ‹…› pouvoir de vers) [Joubert 2010, 185–186], оказывается неточным: Шеаде занимают как раз возможности нового контекста.
85
Хотя А. Шеврие, перечисляя предшественников Жуэ на ниве сокращенных и конспективных классических текстов, ни того ни другого не упоминает [Chevrier 2005, 278].
86
Представляя сообщество, Сумароков писал, что оно строится как «эксперимент соавторства поэта-автора с поэтом-читателем, где вклад первого – текст, а второго – вкус», предполагая «полемизировать от имени современного вкуса против вкуса риторического романтизма или риторического модернизма» (http://monostih-lab.livejournal.com/profile), – на практике, однако, тексты-источники варьировались гораздо шире, от Библии и классической прозы до современных поэтов Ольги Зондберг и Ники Скандиаки, которые и сами обращаются к моностиху.
87
Речь идет о следующем стихотворении:
ВСЁ ПРОШЛО
88
«Кошка переходит по мосту луны», из стихотворения «Введение в самую суть» (Entrada en materia); в популярность этой строки в Мексике внес особый вклад Г. Саид, предложивший студентам и преподавателям интерпретировать ее независимо от контекста, а затем опубликовавший довольно комичные плоды этой интерпретации в отдельной статье [Zaid 1987, 11–14].
89
Этот подход намечен З.Г. Минц в исследованиях цитаты, разлагающих ее функцию в спектре от указания на цитируемое произведение до «знака общей установки на цитацию» [Минц 1973, 396–397].
90
Кормилов вскользь отмечает, что наибольшую степень «моностиховости» примет эпиграф «из малоизвестного произведения» [Кормилов 1995, 84]. Этот подход (хотя и встречаемый не у одного Кормилова: ср. «Абсолютно лишено смысла воспроизведение не– или малоизвестной цитаты без указания адреса» [Крюков 1995, 163]) чреват субъективизмом: то, что представляется «малоизвестным» исследователю, может быть более чем хорошо известным в той референтной группе читателей, на которую ориентировался автор (ср., опять-таки, [Минц 1973, 391, прим. 8]) – что и отмечают новейшие исследователи интертекстуальности, указывая на «элитистский тип цитатности», связанный с «претекстами, доступными только посвященным или творческим единомышленникам» [Juvan 2009, 147]. Чтобы не подменять вопрос о функции эпиграфа в тексте вопросом о его функционировании в читательском восприятии, необходимо анализировать способ его взаимодействия с предваряемым текстом.
91
Термин Ж. Женетта, обнимающий все структурно выделенные элементы текста, находящиеся на его периферии [Genette 1987, 10–11], видится нам предпочтительнее введенного в русский литературоведческий оборот Ю.Б. Орлицким термина «заголовочно-финальный комплекс» с практически идентичным содержанием [Орлицкий 2002, 564–566]: отечественный вариант термина не только громоздок, но и вызывает вопросы явной нерядоположностью заглавия (названия) и финала (под которым понимается не заключительная строка или строки, а следующая за ними дата и т. п.).
92
Разумеется, встречаются пространные названия, с большой вероятностью не умещающиеся в одну строку, однако названия авторски многострочные оказываются в литературе Нового времени большой редкостью – впрочем, представляют интерес прозаические миниатюры со стихотворными многострочными названиями у Сандры Сантана [Сантана 2015]. Особый случай – известное стихотворение Геннадия Айги:
[Айги 2001, 75]
– текст тут элиминирован до нуля, зато название отчетливо двухчастно, в самом себе совмещая тематическую и рематическую часть: ср. замечание И.И. Ковтуновой о том, что в лирическом стихотворении заглавие и текст «нередко выступают как поэтические аналоги темы и ремы» [Ковтунова 1986, 147], и размышления Ж. Женетта о тематических и рематических названиях [Genette 1987, 75–76]; это не значит, конечно, что из состава стихотворения можно выделить включенный в название «однострок», как это вроде бы предлагает Дж. Янечек [Янечек 2006, 148]. О пространных и многострочных названиях стихотворного текста см. также [Орлицкий 2002, 575].
93
О ритмических характеристиках названий стихотворных книг см. [Орлицкий 2002, 582–584] – на материале, однако, главным образом советского поэтического книгоиздания 1960–80-х гг.
94
Сходное с нашим соображение высказывает С.И. Кормилов по поводу «лапидарных» моностихов в противоположность литературным [Кормилов 1996, 146].
95
К полному провалу приводят, например, попытки нащупать границу в содержательной, а не формальной плоскости: «Книга <стихов> претендует ‹…› исчерпать миросозерцание художника, воссоздать отношение ко всему окружающему миру во всех его сложностях и противоречиях, каким он представляется поэту на определенном этапе его развития», – пишет И.В. Фоменко, полагая в этом отличие книги от цикла, призванного «воплотить отношение лишь к одной из сфер бытия, преимущественно лишь к одной проблеме. Это может быть любовь, творчество, родина, добро и зло и т. д.» [Фоменко 1992, 21–22]. Понятно, что такое противопоставление совершенно произвольно: ничто не мешает автору полностью посвятить свою книгу любой из поименованных Фоменко «проблем», после чего можно спокойно констатировать, что на данном этапе развития поэта «весь окружающий мир во всех его сложностях и противоречиях» представляется ему именно сквозь призму данной проблемы. Не менее некорректными представляются попытки, например, В.Ф. Маркова вынести вопрос о разграничении цикла и книги (либо ее раздела) в плоскость истории их создания: «Разделы <книги> отличны от циклов ‹…› с самого начала: в разделе связь устанавливается авторской волей post factum, как бы силком» [Марков 1994, 57], – история литературы знает множество примеров «собирания» в циклы уже законченных произведений (здесь уместно будет привести пример крайнего рода – собирание Савелием Гринбергом цикла «Осколковщина» из стихотворных миниатюр с элементом незавершенности: в книге 1979 г. «Московские дневниковинки» [Гринберг 1979] ряд таких текстов опубликован под общим заголовком «Из цикла “Осколковщина”», а в позднейшем сборнике 1997 г. «Осения» эти фрагменты, дополненные и частично трансформированные, превращены в поэму под тем же названием [Гринберг 1997, 31–40]. Впрочем, позиция Маркова не была поддержана цикловедением (см. беглый обзор вопроса в [Ляпина 1999, 30]).
96
Хотя и тут, вероятно, есть определенные градации: скажем, и в поэме, и в «романе в стихах» возможны обладающие большей самостоятельностью «вставные номера».
97
Ср. у М.Ю. Лотмана: «Относительность границ между текстом и циклом порождает различные промежуточные формы между ними и обусловливает возможность взаимных переходов» [Лотман 2000, 310]. Вскользь упоминает о существовании этой проблемы и Фоменко: «Степень близости стихотворений ‹…› может быть так велика, что ‹…› невозможно провести границу между многочастным стихотворением и циклом…» [Фоменко 1992, 56–57], – полагающий, однако, ввиду ограничения поля исследования XIX веком, что такие формы неясного статуса «оказались достаточно ограниченными в своих возможностях» [Фоменко 1992, 58].
98
В переводе Эллиса эта формальная структура потеряна: часть VIII представляет собой законченный сонет, а часть IX – целое одностишие: «Ты прав, мой бедный сын, да будет мир с тобой!..» В новом переводе Александра Ревича [Верлен 2000, 92]:
IX
99
При том, что первоначально, по сообщению И.С. Кукуя, «Ева» и «Адам» составляли вместе отдельный текст под собственным названием «Суждение о человеке» [Волохонский 2012, 562].
100
Любопытно, что Марков, желая непременно причислить одностишие Шиллинга к моностихам, характеризует его в примечании как «последний из 15-ти Humoresques» [Марков 1994, 355], слегка искажая, тем самым, название текста, в котором французское «Юмореска» стоит в единственном, а не во множественном числе.
101
Если в дело не вмешивается жанровый аспект: ср. [Марков 1994, 57].
102
Возможно, стоит задуматься над подходом, предложенным Е.С. Хаевым: «Определяя цикл, нередко говорят об обогащении стихотворения контекстом. На наш взгляд, это недоразумение. Законченное произведение обогатить нельзя: в нем поставлены все точки над i, достигнуто равновесие всех элементов. (Это утверждение, естественно, следует понимать аксиоматически: называя произведение законченным, мы тем самым утверждаем нечто о соотношении его элементов, – Д.К.) Зато его можно переосмыслить, можно ввести в него новые точки зрения…» [Хаев 1980, 57]. Иными словами, стихотворение в цикле приобретает новый, трансформированный воздействием своих соседей и целого, смысл при сохранении старого, отдельного; в многочастном целом, напротив, смысл целого тотален, он полностью подчиняет себе смысл отдельных частей. Ср. также: «Цикловое целое должно и беречь, и оспаривать автономию отдельных стихотворений. ‹…› Прочитанный в порядке следующих друг за другом текстов цикл должен дать новую, в принципе не содержащуюся в отдельном стихотворении, смысловую структуру, ‹…› сопряженную с более или менее четкой композиционной идеей» [Фигут 2003, 18]. Попытка нащупать иной подход связана с идеей о том, что «в циклической художественной форме важна не столько подчиненность части целому, как в самостоятельном литературном произведении, сколько сама эта связь частей» [Дарвин, Тюпа 2001, 30].
103
Испанские специалисты этого вывода, впрочем, не делают, указывая вместо этого на выработавшийся вообще у Мачадо в этот период, под влиянием философии Анри Бергсона, подход ко всему корпусу своих сочинений как к единому потоку [De Ros 2015, 221–225].
104
От stornello (итал.) – малая форма песенного фольклора в центральной Италии.
105
Русский перевод рассматриваемого произведения Райниса, под названием «Пять эскизных тетрадей Дагды» [Райнис 1981], характеризуется библиографами серии «Библиотека поэта» как выполненный «полностью с сохранением их структуры» [Харыкина 1987, 169–170], однако в действительности заметно сокращен за счет, прежде всего, фрагментированных и построенных на повторе частей, то есть как раз того, что интересует нас в первую очередь. Эта страница, например, в нем полностью отсутствует.
106
Имеющийся русский перевод Анны Ахматовой этим параллелизмом пренебрегает: первая из соседних частей озаглавлена «Это было так давно» и начинается стихом «Всё это скрылось в глубь воспоминаний», вторая начинается стихом «Как память сон далекий сохранила?» [Райнис 1981, 271–272]. Трехстишие, составленное из трех анафорических однострочных фрагментов, также переведено Ольгой Ивинской [Райнис 1981, 280] без всякого интереса к структуре оригинала, то есть не только с утратой анафоры, но и с невозможностью автономного функционирования каждой строки:
– надо полагать, все это издержки советского метода перевода стихотворных книг кусками по подстрочникам, без картины целого перед глазами переводчика.
107
От франц. bagatelle – «безделка»: название практически не употреблялось в поэзии, очень редко – в прозе (когда-то Бенджамин Франклин так называл свои иронические миниатюры), но зато распространено в академической музыке для обозначения легкой и краткой инструментальной пьесы: фортепианные багатели сочиняли, в частности, Бетховен, Лист, Барток, а также лично близкий к Айги Эдисон Денисов. Впрочем, соответствующее русское слово «безделки» на исходе XVIII века использовали в названиях своих поэтических сборников Николай Карамзин и Иван Дмитриев, но филиацию к этому отдаленному прецеденту у Айги увидеть трудно.
108
Примечательно, что даже Дж. Янечек, рассматривая не «Лето с ангелами» как таковое, а книгу «Снег в саду» [Айги 1993] (подготовленную и переведенную на немецкий язык Ф.Ф. Ингольдом и вышедшую двуязычным изданием), в которой в состав «Лета с ангелами» инкорпорирован ряд других текстов большего объема, замечает, что в этой книге «одностроки фигурируют как элементы большой структуры, и поэтому, наверное, чувство их отдельности и минимальности до некоторой степени стирается» [Янечек 2006, 146].
109
Принцип парадигмы изредка встречается и у других авторов, – так, книга шотландского поэта Томаса Кларка (род. 1944) «Избранные травы» [Clark 1998] полностью составлена из однострочных элементов одинаковой структуры:
– каждый отдельный элемент не выглядит незаменимым или неверно интерпретируемым в отрыве от других, однако их изолированное функционирование очевидным образом разрушило бы кумулятивный эффект.
110
Сомнения на этот счет уже выражал Д.М. Давыдов [Давыдов 2006a, 21].
111
В составе более пространного произведения – со значительно более экспрессивной пунктуацией:
112
Ср. также общий тезис А.П. Хузангая: «Айги – тот род поэта, который не нацелен на создание отдельного текста (текстов)» [Хузангай 2009, 10].
113
Это, между тем, широко распространенная практика: см., напр., [Робель 2003, 114] и [Янечек 2006, 145]. Особенно показательно замечание С.Е. Бирюкова о том, что «в одностроках, как это ни странно, Айги звучит вроде бы громче. Однострок ‹…› выделен, слишком обособлен» [Бирюков 2000, 64] – проиллюстрированное двумя однострочными фрагментами из «Лета с Прантлем», которые, конечно, обособлены, но не слишком. Бирюков ввел в заблуждение Н.Г. Бабенко, опиравшуюся на его публикацию в своем обращении к теме моностиха: «В одностроках семантика молчания обретает особое время существования, так как смысловая концентрация в поэтических произведениях этого жанра очень высока и время читательской рефлексии неминуемо длится во много раз дольше времени чтения. В этом смысле однострок Г. Айги “И – Скомканность Молчания”, с одной стороны, является поэтической констатацией “теснения” и вытеснения молчания словом и шумом, с другой – позволяет молчанию длиться и длиться, чем и преодолевается его “скомканность”» [Бабенко 2003, 82–83]: эти размышления вполне справедливы сами по себе, но непосредственно в «Лете с Прантлем» молчание длится не так уж долго: в следующей главке топос поля уступает место топосу деревни, а через главку возникает пение соловья.
114
Мы не обнаружили его источник, но специалисты по Беккету широко обсуждают именно это диалектическое противоречие в его творчестве, указывая, в частности, что искусство Беккета не является «кофмортно бесстрастным (apathetic)», но «принимает обличие страсти, постоянно враждующей против самой себя, то есть – бес-страстия (dis-passion)» [Weller 2009, 116].
115
О том, что отрывки из советских газет целым рядом неподцезурных авторов 1960-х гг. осмыслялись как «абсурдные, почти инопланетные тексты», см. [Kukulin 2010, 592]. Впрочем, интертекст поэмы Хвостенко этим, безусловно, не исчерпывается: например, фрагмент
– апеллирует, возможно, к пьесе Сергея Третьякова «Рычи, Китай!».
116
Ср., впрочем, название старинного цыганского романса «Только ночью цветы оживают…». Разумеется, происхождение этой изолированной синтагмы из данного контекста, а не из любого другого совершенно недоказуемо.
117
Вообще found poetry в интерпретации Хвостенко выглядит иллюстрацией к мысли М.М. Бахтина, противопоставлявшего значение предложения как грамматическую категорию и смысл высказывания как коммуникативную категорию [Бахтин 1986, 276]: речевые обломки Хвостенко обладают известной полнотой значения, только подчеркивающей неполноту смысла.
118
В этом смысле замечание А.А. Житенёва относительно того, что «лирический субъект Хвостенко – “подозритель”, скептический наблюдатель, стремящийся к самоопределению в выморочном пространстве искаженных человеческих отношений. Мир “подозрителя” безнадежно фрагментирован и элементарен, проникнут духом тотального бунта, осложнен невозможностью расподобить друга и врага» [Житенёв 2012, 87], – отчасти бьет мимо цели, поскольку и лирический субъект у Хвостенко также является предметом деконструкции и демонтажа.
119
По-видимому, сам Рубинштейн близко подходит к такой интерпретации: «Каждая карточка понимается мною как универсальная единица ритма, выравнивающая любой речевой жест…» [Рубинштейн 1996, 6]; ср., однако, понимание стиха Рубинштейна как верлибра у М.Ю. Лотмана [Лотман 1999, 40]. Остается открытым вопрос о том, справедливо ли это для других стихотворных книг, отпечатанных на карточках, – прежде всего, для проекта Роберта Гренье «Фразы» [Grenier 1978], в котором содержание карточек (к тому же непронумерованных) гораздо более однородно (от одиночных слов до верлибров в 4–5 строк, включая множество однострочных фрагментов), но, тем не менее, возможность извлечения отдельных карточек из контекста целого неочевидна (о подходах к чтению Гренье см. [Watten 1984] и [Perelman 1996, 46–52] – Б. Уоттен, кажется, склоняется к пониманию «Фраз» как единого текста, тогда как Б. Перельман обсуждает отдельные карточки как относительно независимые).
120
Соображение это кажется самоочевидным – однако все же существует мимолетная квалификация текстов Рубинштейна как «циклов одностроков» [Янечек 2006, 145].
121
Ср., однако, размышления В.И. Тюпы об «интегративном цикле», части которого «самостоятельны по форме ‹…› и самодостаточны по смыслу. В то же время, пронизанные множеством общих мотивов, они спаяны в разноголосое единство конвергенции, где один текст поясняется, восполняется, поддерживается другим» [Тюпа 2003, 58], – примеры Тюпы (из «Армении» Осипа Мандельштама) близки к нашим, а выводы более сдержанны, поскольку прочная традиция интерпретации отдельных стихотворений «Армении» как вполне самостоятельных уже сложилась.
122
Любопытно, что приводимые Скиданом примеры одночастных фрагментов Жукова:
и др. – определенно характеризуются не только эвфонической, но также и аллитерационной выстроенностью, однако об их соответствии каким-либо метрическим схемам речь, конечно, идти не может: здесь то самое явление Ритма помимо метра, о котором шла речь выше.
123
К обоснованию термина см. [Орлицкий 2002, 411–412].
124
Представляет интерес, например, размышление Р. Зенита об обособленных микрофрагментах в составе прозаической «Книги беспокойств» Фернандо Пессоа (которая и вообще представляет собой собрание фрагментов): эти «неполные предложения, которыми открываются некоторые отрывки, затем повторяются уже интегрированными в их состав» и представляют собой, по мнению исследователя, своего рода изолированный стих, ставший источником для создания вокруг него более целостного прозаического фрагмента – а в некоторых случаях этот прозаический фрагмент так и не появился, и первоначальный «стих» остался без развития [Zenith 1999, 36]. Один из таких не подхваченных дальнейшим течением прозы фрагментов (главка 318) иногда републикуется как моностих (напр., [Moga 2007, 50]):
– однако и в этом случае (ср. выше анализ полностью стихотворных циклов Арпа и Жукова) содержание образа в полной мере выявляется только в контексте целого – как минимум в сопоставлении с предыдущим фрагментом (перевод Александра Богдановского, не опубликован):
Только для меня застывает, раскинув тяжелые крылья, закат, окрашенный туманно и резко. Для меня под ним подрагивает большая река, и глазу незаметно ее струение. Для меня сотворено обширное пространство над рекой в разливе. Сегодня в общей могиле похоронили приказчика табачной лавки. И сегодняшний закат – не для него. Но, подумав здраво, хоть и невольно, понимаешь, что – и не для меня тоже.
…корабли, что проходят в ночи, и не перекликаются приветственно гудками, и знать друг друга не знают.
– любопытно, что переводчик прозы находит ритмическую компактность оригинала изолированной строки, тяготеющей к трехдольности (…barcos que passam na noite e se nem saúdam nem conhecem.), нерелевантной – что, конечно, справедливо ввиду силлабического характера португальской метрики, но (как мы уже обсуждали на примере Жюля Ренара, см. стр. 42) в иных обстоятельствах эти ритмические характеристики могли бы указывать на стихотворность текста помимо метра (недаром поэт Педро Лопес Мартинес инкрустирует эту строчку Пессоа непосредственно в текст своей поэмы [López Martínez 2006, 55]).
125
Что на практике сплошь и рядом случается: ср. судьбу моностихов Брюсова (стр. 121–123), вопрос о гипотетических моностихах Ивана Хемницера (стр. 112–113), Даниила Хармса (стр. 176–178), Шарля Бодлера (стр. 185).
126
Любопытно, что «пустых» строк Чухонцев оставил не 19, а всего 9, так что получилось десятистишие – довольно редкая и совершенно нехарактерная для этого автора строфическая форма. Может быть, это косвенно говорит о том, что, как отмечал Д.М. Давыдов, пороговой величиной для современного русского поэтического сознания остаются 8 строк: то, что меньше, воспринимается как миниатюра, то, что больше, – как развернутый лирический нарратив [Давыдов 2006b, 8–9].
127
Английский оригинал эффектнее, поскольку начинается с составляющего отдельный стих артикля:
128
Справедливости ради отметим, что именно на время работы С.И. Кормилова пришелся одномоментный всплеск публичного интереса к стихам Алдаровой, в которых, по мнению З.А. Шаховской, «ни тени вульгарности, а современность ‹…› связана нитью со славным прошлым русской поэзии» благодаря тому, что упоминаются «и Цирцея, и Прометей, и Адам, и Пико делла Мирандола» [Алдарова 1991, 210].
129
«Если в контексте строки <слово> тесно связано с другими словами, имеет единственное, обусловленное ими, значение, то при выделении его в самостоятельный стих эти связи нарушаются, слово высвобождается и может иногда приобретать уже ряд значений» [Костецкий 1974, 101].
130
Среди авторов, воспользовавшихся альтернативой многострочного и однострочного решений, нужно назвать еще Нормана Мейлера (Norman Mailer; 1923–2007), который в сценарии для собственного фильма «Мэйдстоун» (1970) вложил в уста главного героя (которого сам сыграл) реплику: «Я однажды написал о нас с тобой стихотворение. Однострочное. Называется “Дьяволы”» – и далее приводится само стихотворение: «Один из нас будет выглядеть лучше после всего» [Mailer 1971, 95]; это стихотворение было, однако, ранее опубликовано в составе небольшого цикла «Дьяволы» в книге стихов Мейлера, но там занимало семь строк – по 1-2 слова в строке (как, впрочем, и другие тексты в этой книге) [Mailer 1962, без паг.].
131
Ср., однако, на стр. 103–104 о «шестисловиях» Веры Лавриной, в которых конвенциональная «лесенка» выступает лишь как один из многочисленных вариантов графического решения текста, всегда отличного от традиционной нормы.
132
И, стало быть, допускает произвол противоположного рода, пример которого указывает Кормилов [Кормилов 1993, 17]: Ипполит Богданович на исходе XVIII века методически приводил записываемые паремии к форме двустишия – типа:
Неудивительно, что и некоторые авторские имитации малых фольклорных жанров графически оформлены как многострочные тексты, «по Богдановичу»:
Герман Лукомников
Ср. также замечание А.К. Жолковского о предпочтительности интерпретации анализируемой им пословицы как трехстишия в [Жолковский 2011, 110].
133
Ср., впрочем, возражения против этого принципа, в том числе и с апелляцией к моностиху пословиц, поговорок и загадок, в [Саука 1975].
134
Термин не видится вполне удачным, поскольку, как признаёт и сам его автор, у «анти-пословиц», представляющих собой результат умышленной трансформации исходной паремиологической единицы, гораздо больше общего, чем различий, с оригинальными фольклорными претекстами [Litovkina, Mieder 2006, 4–5]. Из многочисленных альтернативных терминологий (см., напр., перечень в [Канавалава 2010, 93]) предпочтительным видится предложение С.И. Гнедаш, различающей провербиальные трансформы (с измененным относительно претекста планом выражения, но сохраненным планом содержания) и провербиальные трансформанты (с измененным планом содержания) [Гнедаш 2005, 9–10]; впрочем, для трансформации претекстов непаремийного происхождения это различение может не быть релевантным – ср. используемую нами типологию текстов-перифразов Г.Е. Крейдлина (стр. 270–278).
135
Сходные рассуждения поэтов Татьяны Виноградовой и Бориса Гринберга относительно русских рекламных слоганов («Просто добавь воды», «Ведь я этого достойна!») и политических лозунгов («Родина-мать зовет!») [Блиц-интервью 2009, 168–169] менее убедительны, поскольку опираются на ощущение эмоциональной нагрузки («Какой посыл! Какая мощь!» – Виноградова), укорененное скорее во внетекстовой ситуации, чем в ее структурных коррелятах (повторы согласных в обоих слоганах – д и в в первом, д и т во втором, – не подкреплены ни синтаксически, ни ритмом словоразделов и потому обладают довольно слабым потенциалом семантической трансформации).
136
Известно, в частности, что Федор Достоевский распорядился выбить карамзинскую строку на могиле своей матери (об этой цитате у Достоевского см., например, [Куюнжич 2006, 84]).
137
В связи с этим вряд ли правомерна параллель между этими текстами Волошина – и лапидарным слогом и его «дериватами» (?), которую проводит Кормилов [Кормилов 1996, 146]: различие соотношений между вербальным и визуальным элементами в волошинских работах и в плакатах типа «Спички детям не игрушка» (пример Кормилова) кажется достаточно очевидным.
138
Мы не рассматриваем здесь коллаборативные произведения, в которых вербальный элемент принадлежит одному автору, а визуальный другому. Стоит, однако, упомянуть о проекте американской писательницы Кэтрин Борн (Kathryn Born) «Однострочный коллектив» (The One Line Collective), в рамках которого более 20 художников представили около 60 работ, каждая из которых получила название по одному из моностихов Борн; итоговая выставка проекта прошла в апреле 2004 года в Чикаго.
139
Это с моностихами тоже иногда случается: см., например, [Krier 1996] о композиторском конкурсе на лучшую музыкальную интерпретацию аполлинеровского моностиха «Поющий», [Miranda 2004, 109] о том, как однострочное стихотворение Хосе Горостисы положено на музыку (1934) Хосе Ролоном, [Los compositores 1998] о вокальном нонете «v3v3v3v» колумбийского композитора Рафаэля Акосты (в источнике ошибочно Косты) на текст однострочного стихотворения Пабло Неруды «Моя душа».
140
Ср. аналогичное признание одного из пионеров моностиха в современной англоязычной поэзии Джеймса Кёркапа: «Я впервые заинтересовался однострочными стихотворениями, когда приехал в Японию двенадцать лет назад» etc. [Kirkup 1971, 6]; позднее указывалось и на то, что – в отличие от эпиграммы, афоризма или пословицы – для современных англоязычных моностихов, как и для хайку, характерны «чувство пространства и “разомкнутость” (“unclosure”), дающие совершенно иной эффект и проявляющие совершенно иную онтологическую установку» [Watson 2000]. Моностихи Эмманюэля Лошака, одного из первых французских авторов, последовательно работавшего с этой формой, также вызывали у коллег автора ассоциации с хайку [Richard 1967, 236] – и, как утверждается, знакомство Лошака с этим японским жанром действительно имело место и было весьма ранним (1905) [Simonomis 1994, 88–89]; о целесообразности соотнесения моностихов Лошака с французским переводным и оригинальным хайку пишет также М. Келару [Chelaru 2011, 47–52] в книге, обсуждающей степень взаимосвязи с хайку первых румынских моностихов Иона Пиллата (и дистанцирующейся от твердого убеждения В. Молдована и Ф. Василиу в том, что моностих Пиллата представлял собой европейский ответ хайку [там же, 66–68], но обходящей молчанием то обстоятельство, что сам Пиллат утверждал: моностих «не следует смешивать с греческой эпиграммой, персидским рубаи и японским хайку», – впрочем, и для Э. Лэшкони, цитирующей именно это заявление, оно выступает лишь указанием на то, от каких прообразов Пиллат отталкивался [Lăsconi 2013, 66]).
141
А в ХХ веке ряд ведущих японских авторов отказывается от использования киредзи, тем самым приходя к структурной нерасчлененности хайку (см. подробнее стр. 201–202).
142
Так, Э. Хирш начинает заметку о моностихе в своем «Глоссарии поэта» с того, что образцом моностиха является хайку [Hirsch 2014, 390]. В англоязычном сообществе авторов и переводчиков хайку такой подход широко обсуждается с конца 1970-х гг.: ср., напр., красноречивое название статьи Кларенса Мацуо-Аллара «Хайку: настоящее однострочное стихотворение» [Matsuo-Allard 1977]. Чуть подробнее о хайку как моностихе в англоязычной традиции см. стр. 316–317.
143
«Отсутствие твердых форм в поэзии может показаться безобидным, но это не так. Твердые формы структурируют поэзию. Когда какой-нибудь поэт в эпоху поэзии, богатой твердыми формами (например, Катулл, Галеви или Вийон), писал свои стихи, ‹…› каждый новый текст либо принадлежал к одной из существующих твердых форм (и тогда он воспринимался в контексте знаменитых образцов этой формы или в контексте стереотипа восприятия этой формы), либо оказывался вне твердых форм, но близко к какой-то и каким-то из них (и тогда важную роль в восприятии текста играла подсознательная или сознательная попытка читателя понять смысл и назначение отличий между формой данного текста и близкими к его форме твердыми формами). ‹…› В настоящее время ‹…› в русской поэзии традиционные твердые формы совершенно прекратили выполнять функцию структуризации поэтического пространства, поскольку актуальное пространство поэзии сдвинулось, а формы остались там, где были», – и т. д. [Верницкий, Циплаков 2005, 156].
144
Выбор именно этого ограничителя обусловлен у Лавриной нумерологическими резонами: «Шесть – это два раза по три и три раза по два. Числа два и три сакральны для русской культуры. Два напоминает о двойственной природе Христа. Принципу дуальности следуют множество русских пословиц, когда вторая их половина противопоставляется первой. Троекратность воскрешает образ Троицы. Это часто повторяющийся в народном творчестве, в религиозных и магических текстах прием. Троекратное повторение означает утверждение, воскрешение к бытию. Касательно шести вспоминается также пушкинский шестикрылый серафим как дух и гений поэзии. Число шесть тоже обладает полнотой и имеет сакральный смысл: за шесть дней были сотворены мир и человек».
145
Не лишне отметить, что речь идет не только о первом моностихе на русском языке, но и о первом моностихе русского автора, вопреки гипотезе П.Н. Беркова [Берков 1962, 53–55], согласно которой Михаил Ломоносов в 1756 году сочинил однострочную латинскую эпиграмму в подражание Джону Оуэну (см. след. прим.), попавшую на листы с подготовительными материалами к ненаписанной книге «Теория электричества»:
– по причине игры слов текст практически непереводим (дословный перевод Я. Боровского: «Если ты муж и процветаешь, то собери силы и силою бери вещи» [Ломоносов 1952, 238–239]). «В просмотренных мною работах о новолатинской поэзии ‹…› мне не удалось обнаружить данной эпиграммы. Поэтому я склонен считать этот моностих произведением Ломоносова», – не без осторожности пишет Берков; нам, в цифровую эпоху, проще обнаружить источник: цитируемая Ломоносовым строка встречается, в разных вариациях, в нескольких источниках XVII–XVIII веков – напр., [Nihus 1642, 163].
146
Вопрос об однострочных стихотворениях Античности мы специально не рассматриваем, а обзорной литературы по этому вопросу, видимо, не существует [Chamoux 2004, 758]. Уместно, однако, отметить, что совершенно твердых свидетельств задуманной однострочности дошедших до нас с древних времен в однострочном виде текстов нет: практически всегда вполне вероятно, что уцелевшая строка представляет собой осколок более обширного текста. Это обстоятельство, однако, зачастую оказывалось безразличным для позднейших авторов – равно как и происхождение из письменной литературы или эпиграфики: так, Бен Джонсон в начале XVII века иллюстрирует свою мысль о том, что «даже единственный одинокий стих может составить превосходное стихотворение», двумя эпиграммами Марциала и стихом из «Энеиды» Вергилия – подписью Энея к щиту Абанта, прибитому ко входу в святилище Аполлона в Акциуме [Johnson 1906, 120]. В любом случае надписями и эпиграммами представление о возможностях моностиха совершенно ограничивалось: так, составленный Э. Филлипсом, учеником и племянником Джона Милтона, толковый словарь «The New World of English Words» (1658) определял моностих как однострочную эпиграмму, а Дж. Г. Льюис двести лет спустя замечал, тоже со ссылкой на Марциала, что «редкость моностихов вызвана трудностью втискивания в одну строку всех обстоятельств, необходимых для объяснения шутки, и самой шутки» – также подразумевая, тем самым, жанровую определенность формы [Lewes 1845, 459]. Более того, в значительной мере моностих понимался как возможность, присущая именно латинской эпиграмме: так, популярный эпиграмматист XVII века Джон Оуэн (1564?–1622?) мог вслед за тремя прецедентными однострочными эпиграммами Марциала (II. 73, VII. 98 и VIII. 19) обратиться к этой форме и включить в свое четырехтомное собрание (1606–1613, свыше 1500 эпиграмм) три однострочных текста (IV. 256, V. 56 и V. 75 [Owen 1766, 152, 188, 191]), но в полном переводе этого собрания на английский язык (1677) им, разумеется, соответствуют двустишия; впрочем, и однострочные эпиграммы самого Марциала переводились если не прозой, то как минимум двустишиями – а то и четверостишиями, как, например, в относящихся к XVIII веку немецких переводах Эфраима Мозеса Ку и Готхольда Эфраима Лессинга [Martial 1787, 187, 189]. Любопытно, что Лессинг, чьи эпиграммы в целом создавались под явным влиянием Марциала [Nisbet 2008, 201], сочинил-таки однострочную эпиграмму-экспромт «Эпитафия повешенному»:
– опубликованную, однако, спустя многие десятилетия [Joerdens 1812, 41]. Первые же однострочные переводы однострочных эпиграмм Марциала были напечатаны лишь в 1825 г. Бенедиктом Вильманом [Martial 1825, 150, 156].
147
Ср. другой взгляд на вещи у С.И. Николаева, полагающего, что «отграничить “реальную” эпитафию от “литературной” довольно сложно, а иногда и просто невозможно» [РСЭ 1998, 7].
148
Но вряд ли прав С.И. Кормилов, утверждая (хотя и без полной внятности) на этом основании, что моностих Карамзина принадлежит исключительно «лапидарной» традиции: «Русская культура практически до конца XIX столетия не знала моностиха литературного… Эта [карамзинская, – Д.К.] попытка перевода лапидарного слога в литературу не удалась, ‹…› и более века еще литературный моностих не появлялся» [Кормилов 1995, 71]. Любопытно, что как раз в «лапидарной» традиции к единственной карамзинской строке часто дописывали вторую – например: «Душа твоя востанет в блаженстве заутра» [РСЭ 1998, 9]. Напротив, сложно увидеть карамзинское влияние в совершенно естественном для «лапидарного слога» читательском моностихе – однострочном фрагменте многострочного стихотворения, хотя именно такую логику рассуждений демонстрирует О.И. Федотов: «В.Н. Топоров обращает наше внимание на весьма примечательный факт: по аналогии с данным произведением Карамзина в дальнейшем были использованы как кладбищенские моностихи изолированные строчки из его же “полнометражных” текстов. Например,
– не что иное как заключительная строка его перевода Элегии Грея» [Федотов 2002, 20], – библиографическая ссылка на В.Н. Топорова у Федотова отсутствует, но вряд ли это Топоров приписывает Карамзину строку Василия Жуковского и называет заключительной первую строку заключительного четверостишия.
149
Републиковано в [РСЭ 1998, 104] без кавычек и с заключительной точкой вместо восклицательного знака.
150
На нее обратил наше внимание М.А. Амелин.
151
В действительности авторство этой идеи принадлежит Владиславу Ходасевичу, также ссылающемуся на Грота и на то, что «наброски державинской эпитафии не раз встречаются как раз в тех тетрадях Державина, где записывались черновики стихов» [Ходасевич 1991, 515]; эту заметку Ходасевича, опубликованную в 1933 г. в парижской газете «Возрождение», Марков упоминает, но время ее публикации называет неверно: 13 августа вместо 23 июля ([Марков 1963, 254]; в [Марков 1994] эта ссылка вообще снята).
152
Аналогичные подсчеты М.Л. Гаспарова дают 17 текстов в промежутке с 1740 по 1830 гг., из 3260 учтенных [Гаспаров 2000, 316].
153
Сообщение Кормилова о публикации этой надписи в журнале «Друг просвещения» (№ 10 за 1805 г.) [Кормилов 1993, 19] основано на недоразумении: в действительности в этом издании на стр. 25 (а не 222 – у Кормилова, видимо, опечатка) помещен другой текст Державина – четверостишие «На кончину графа Суворова-Рымникского князя Италийского» (в [Державин 1866, 380] под названием «На смерть Суворова»).
154
Полемический характер этого утверждения направлен, вероятно, на широко распространившееся благодаря мемуарам Е.Б. Фукса мнение, что такую эпитафию Суворов сочинил себе сам [Фукс 1827, 9].
155
Другая эпитафия Суворову, написанная Николаем Гнедичем и отнесенная к моностихам С.Е. Бирюковым [Бирюков 1994, 60], в действительности является двустишием [Гнедич 1832, 204]; в [Бирюков 2003] пример из Гнедича снят, но в вузовский учебник [Федотов 2002, 20] успел попасть.
156
В связи с этим фактом вызывает некоторое недоумение замечание Кормилова о том, что публикация данной надписи не была осуществлена потому, что после 1791 г. (года смерти Г.А. Потемкина, убившего Голицына на дуэли – спровоцированной им, согласно тогдашним слухам, из зависти) «это потеряло смысл» [Кормилов 1993, 18].
157
Кормилов же пишет о нем (и о других державинских моностихах) в [Кормилов 1993] как о лапидарном (а не литературном), а затем в другом месте, упоминая о «первых русских литературных моностихах Державина и Карамзина» [Кормилов 1996, 145], отсылает к этой своей работе.
158
Хотя в отдельных случаях ритмическая корреляция текста и названия, безусловно, имеет место: см. стр. 39–40 и 332–333.
159
И наоборот: в произвольно выбранных 50 баснях Хемницера нами зафиксированно 12 стихов, обладающих логической и синтаксической самостоятельностью аналогично спорным фрагментам. Все они представляют собой шестистопный ямб (хотя вообще ямб хемницеровских басен вольный), да и в других отношениях сходство очень сильное (ср., напр.: «От зла нередко зло другое происходит.» – «От зла и одного чего не отродится!»)
160
На этот источник обратил наше внимание М.И. Шапир.
161
Из стихотворения Батюшкова «Мои Пенаты»: «Упьемся сладострастьем / И смерть опередим».
162
Имеются в виду Джеймс Томсон (1700–1748) и Жан Франсуа Сен-Ламбер (1716–1803), авторы одноименных поэм «Времена года» (1730 и 1769 соответственно).
163
В последующих републикациях варьируются союзы: ou нередко меняется на et и наоборот, что довольно мало влияет на смысл текста.
164
Rimaillet – от глагола rimailler «рифмачить, сочинять плохие стихи». В одном из позднейших источников автором этой переделки назван Анри де Каррион-Низа (1767–1841) [Maurice 1856, 247].
165
Циркулируя, по-видимому, и изустно, с различными искажениями и дополнениями; отметим цитирование моностиха Жаном-Батистом Гурье с атрибуцией его неаполитанскому посланнику в Париже Доменико Караччоли (1715–1789) [Gouriet 1806, 155].
166
Жан Кризостом Ларше, граф де Ла Турай (1720–1794), в 1755–1790 гг. состоял адъютантом (а поначалу, особенно во время начавшейся через год Семилетней войны, отчасти и воспитателем) при принце Конде (1736–1818), однако не последовал за ним в эмиграцию, а удалился в деревню работать над новой книгой, где затем был арестован, препровожден в Париж и гильотинирован; известен, главным образом, своей перепиской с Вольтером [Bellevüe 1911].
167
Вероятно, имелся в виду Сульпиций Север, римский христианский писатель рубежа IV–V веков, знаменитый изысканной лаконичностью стиля. С другой стороны, франц. sévère – «строгий, суровый».
168
Можно довольно уверенно утверждать, что замечание Нугаре о беспрецедентности однострочных «Времен года» для классической поэзии относится не к самому факту однострочности, а к однострочному стихотворению, свободному от жанрового канона. Так, в 1816 году Жозеф Никола Барбье-Вемар (1775–1858) в своем журнале латинских стихотворений «Hermes Romanus» опубликовал сочиненный по просьбе читателя (!) моностих – подпись к известному бюсту Мольера скульптора Жана-Антуана Гудона, – явно понимая этот жест как вполне естественный [Hermes 1817, 807]. Характерно, что в словаре французского языка, составленном на основе записей Антуана Ривароля (см. след. прим.), моностих определяется как однострочная эпиграмма [Rivarol 1827, 639].
169
Возможно, такой вид сюжету придала контаминация с другим анекдотом, рассказывавшимся про писателя Антуана Ривароля (1753–1801), отозвавшегося будто бы о прочитанном ему двустишии: «Неплохо, но есть длинноты», – этот анекдот вроде бы был впервые опубликован в 1803 г. [P.M. 1803, 176]. Во всяком случае, спустя сто лет французский справочник крылатых слов и выражений рассказывает эти две истории вместе и выражает предположение, что в первой из них Ривароль вполне мог быть «другом Севером» [Alexandre 1901, 121]. Кроме того, Риваролю же принадлежит язвительная шутка по поводу еще одного одинокого стиха – строки из стихотворения Антуана Лемьера (1723–1793) «О торговле» (Sur le Commerce, 1757):
– этот стих, предмет особой гордости автора, широко цитировался современниками и даже именовался «стихом века» (не только в связи с собственными поэтическими достоинствами, но и как афористическое выражение геополитической доктрины): по воспоминаниям М. Кюбьера-Пальмезо, Ривароль ответил на вопрос об этой строчке: «Да, это одинокая строка» (Oui, c’est le vers solitaire), подразумевая посредственность стихотворения в целом, – пуант шутки, однако, в том, что vers solitaire (одинокий стих) звучит так же, как ver solitaire (ленточный червь) [Palmézeaux 1803, 294]. Среди других возможных претекстов моностиха де ла Турая можно назвать относящуюся к 1703 году и опубликованную в 1770 году переписку Никола Буало с младшим коллегой и будущим издателем Клодом Броссетом, в которой обсуждался перевод Буало однострочной эпиграммы из «Палатинской антологии» (IX. 455, вдохновлявшей многих эпиграмматистов [Добрицын 2008, 247] и переведенной на латынь с сохранением однострочной формы Томасом Мором): Буало превратил ее в заключительный стих десятистрочного стихотворения, но в самой строке сократил одно слово, что и привело к дискуссии о краткости и избыточности в поэтической миниатюре [Boileau 1770, 264, 268–270, 275].
170
Консультацией по этому вопросу мы обязаны И.А. Пильщикову.
171
Впрочем, том 11 этого издания, в котором содержится данный эпизод, остался в личной библиотеке Пушкина неразрезанным [Модзалевский 1910, 214]. Однако направить фантазию молодых Вяземского и Пушкина в эту сторону могли и какие-то иные прецеденты минимизации и эрозии формы и содержания, явившиеся во французской литературе последней трети XVIII века зримым свидетельством культурной и эстетической революции, – ср., напр., [Moore 2009, 16–25] о пародийной пьесе (названной к тому же «стихотворением в прозе») Шарля Жоржа Кокле де Шоспьера (1711–1791, известен прежде всего как цензор, разрешивший «Женитьбу Фигаро») «Добродетельный распутник» [Coqueley de Chaussepierre 1770], каждое из пяти действий которой представляет собой немногочисленные никак не связанные слова и знаки препинания, разбросанные по пустой странице (или, если угодно, разделенные обширными пробелами); характерно, что для современников (в лице, например, М.Ф. Пиданза де Меробера [Mémoires 1783, 153]) эта публикация была едкой пародией, тогда как для новейших исследователей она выступает провозвестником кардинальных изменений в соотношении текста и фона у Стефана Малларме, дадаистов и т. д. [Andel 2002, 24–27]
172
Т.е., вопреки безоговорочному заявлению В.Ф. Маркова о том, что «наше сознание воспринимает как однострок случайно дошедшие до нас обрывки из древних поэтов» [Марков 1994, 347], этот подход вовсе не является самоочевидным. Корректнее формулирует Е.И. Зейферт: «Ненамеренная фрагментарность текста (его частичная потеря, незаконченность, публикация фрагмента произведения) в сознании творческого человека может вызвать ощущение намеренного приема – отрывочности, оборванности текста как атрибута художественной формы с богатыми возможностями: множеством вариантов интерпретации смысла, стимулированием читательского сотворчества – и стать… примером для подражания» [Зейферт 2014, 17].
173
Консультациями по этому вопросу мы обязаны В.В. Зельченко и С.А. Завьялову.
174
Этой графике следует позднейший русский перевод Виктора Ярхо [ЭП 1999, 362]:
175
Более ранний перевод Василия Водовозова и позднейший Викентия Вересаева также двустрочны; для колебаний в графике подлинника здесь нет оснований: фрагмент дошел в составе трактата по метрике «Гефестион», где он фигурирует как пример двустишия ямбическим триметром [Campbell 1988, 90–91].
176
Из трех имеющихся в каноническом корпусе сочинений Марциала однострочных фрагментов (самостоятельных или нет – в точности неизвестно), без откровенно непристойного II. 73.
177
«У римлян были законченные стихотворения в одну строку… Я просто хотел сделать такую попытку с русским стихом» [Измайлов 1911, 395]. Брюсов, очевидно, имеет в виду латинские эпиграммы, литературность которых с сегодняшней точки зрения сомнительна; сборник таких эпиграмм (среди которых целый ряд однострочных) был в домашней библиотеке Брюсова. Находились в поле зрения поэта и греческие однострочные фрагменты; в имевшейся у него книге «Anthologia lyrica graeca» один из таких фрагментов, содержащий характеристику Сапфо, данную Алкеем, несет следы брюсовской работы по его переводу (ОР РГБ, ф.386:Книги:628, л.117об). Существенно позже Брюсов переводил однострочные фрагменты раннелатинских авторов (см. [Брюсов 1994, 795]).
178
От обсуждения присущих этой эпохе особенностей в восприятии слова и текста нам хотелось бы, в рамках нашей гораздо более специальной темы, уклониться, но и без подробного обсуждения понятно, что повышенный интерес к формальной стороне искусства способствует перемещению в фокус внимания авторов, читателей и исследователей малой формы и малых единиц текста.
179
В предисловии к этому изданию анонсированы всего четыре «одностишия»: «Мы не воздержались также от включения в сборник четырех одностиший, подобных ставшему в свое время притчей во языцех: О, закрой свои бледные ноги…» [Брюсов 1935, 7]. Первоначально составитель планировал публикацию только текстов 1894 г., три текста 1895 г. были вписаны И.М. Брюсовой в гранки (РГАЛИ ф. 613 оп. 1 ед. 5755 л. 72).
180
К которой, к сожалению, доверившись академическим авторитетам, присоединились и мы в нашей ранней публикации [Кузьмин 1996, 72].
181
Тире на конце этой строки всеми публикаторами опущено.
182
Позднее этот бодлеровский сонет был все же переведен Брюсовым полностью, в шестистопном ямбе (см. [Брюсов 1994, 271]).
183
Комментаторы Собрания сочинений, интерпретируя «Кошмар» как вариант заглавия, ошибочно относят его к другому моностиху, написанному почти годом позже [Брюсов 1974, 595].
184
Ср.: «автор, перечитывая и просматривая записи, обнаруживает, что возможно перевести некоторые из них из одного статуса в другой (объявить текст законченным)» [Азарова 2008, 274].
185
В связи с этим традиционная датировка брюсовского моностиха 3-м декабря 1894 г. становится не вполне корректной: эта дата относится к наброску из записной книжки, дата же вышеозначенного решения и итоговой правки – а до этого нет оснований говорить о существовании отдельного текста, нуждающегося в датировке, – остается неизвестной. Ср.: «Есть все основания для двойной датировки эквивалентов <текста>: временем их написания и временем теоретического осмысления в таковом качестве» [Орлицкий 2002, 602].
186
17 августа датировано, в частности, письмо П.П. Перцову, цитируемое на стр. 133.
187
Хотя и здесь невозможна твердая уверенность в том, что одинокие строки не являются бегло, для памяти записанными Брюсовым началами каких-то ненайденных многострочных стихотворений, предназначенных составить цикл с первым текстом, или попросту незавершенными набросками.
188
Иного мнения придерживается О.А. Клинг: «Брюсов шел на эпатаж сознательно, но, думается, читателей не столько шокировала сама “новая” форма стиха, сколько содержание, а точнее “бледные ноги”» [Клинг 1992, 272], – аргументируя это, однако, тем, что из всех своих моностихов Брюсов выбрал для публикации самый рискованный в содержательном отношении; как мы видим из истории брюсовских черновиков, это не так, потому что до опубликованного в «Русских символистах» моностиха других моностихов у Брюсова не было.
189
Инициалами «А.З.» в этом случае, вероятно, подписался А.Е. Зарин (хотя И.Ф. Масанов и не учитывает «Звезду» среди журналов, в которых этот автор пользовался данным криптонимом [Масанов 1956, I:40], Энциклопедия Брокгауза и Ефрона указывает на тесную связь Зарина с этим изданием [ЭСБЕ 1905, 772]).
190
С.И. Гиндин отмечает, что это письмо «ярко характеризует восприятие зарождающейся новой поэзии сознанием массового читателя» [Брюсов 1991, 681].
191
Ср. точно такое же «например» в отстоящем от «Русского богатства» на полвека отзыве Б.В. Михайловского: «Многое вызывалось желанием обратить на себя внимание, эпатировать публику доведенными до крайности “новшествами” (например, нашумевшее “стихотворение” из одной строки…)» [Михайловский 1939, 290].
192
Дает ли этот пассаж Кандинского основание для заявления современного исследователя: «Как и многих, художника поразила строка В. Брюсова “О, закрой свои бледные ноги!”, о чем он позже вспомнил в своей ранней статье» [Турчин 1998, 19]?
193
По поводу приписывания самого брюсовского текста Александру Добролюбову С.Н. Тяпков замечает, что это знак неразличимости для Буренина отдельных представителей символистского течения [Тяпков 1986, 92], – однако ответственность за эту накладку лежит не на Буренине, а на П.П. Перцове, тремя месяцами раньше опубликовавшем в той же газете «Новое время» сообщение о принадлежности знаменитого моностиха Добролюбову [Перцов 1901] (характерно, что, отмечая тут же неточность цитирования Бурениным Брюсова, Тяпков приводит брюсовский текст с двумя обычными ошибками – запятой после «О» и восклицательным знаком). О том, что современники, при всей знаменитости моностиха, могли путаться в его авторстве, говорится также у Ивана Бунина в так называемой «Автобиографической заметке» (Письмо к С.А. Венгерову от 10 апреля 1915 года): абзац, в котором Бунин описывает, не называя, Александра Емельянова-Коханского, завершается замечанием: «именно ему долго приписывали многие все эти “закрой свои длинные ноги” и т. п.» [Бунин 1967, 259], – возможно, впрочем, что Бунин здесь использует брюсовский моностих в собирательном смысле, подразумевая ранние тексты Брюсова вообще и отражая общеизвестную напряженность во взаимоотношениях Брюсова и Емельянова-Коханского, включавшую и факт публикации последним стихотворений Брюсова под своим именем, на уровне слухов, возможно, известный и современникам (см., напр., [Кобринский 2010, 86–87]); как более или менее осознанное оскорбление в адрес Брюсова расценил такое уравнивание Буниным его и Емельянова-Коханского Петр Пильский [Пильский 1999, 273]. В позднейших мемуарах приписывает моностих Брюсова Андрею Белому Иван Клюн [Клюн 1999, 271].
194
Впрочем, еще раньше Константин Станюкович в одном из фельетонов упоминает о «новых людях», один из которых «написал замечательное стихотворение ровным счетом в 4 слова: – О, застегни свой жилет!» [Пильский 1999, 276]. Интересно, что буренинский тип остроумия в точности воспроизведен спустя более чем сто лет, хотя и по совершенно постороннему поводу, Виктором Топоровым: «Представьте себе, что вам хочется украсть у Валерия Брюсова знаменитый моностих “О, закрой свои бледные ноги!”, – но украсть так, чтобы вас не поймали, а вернее, даже поймав, не смогли притянуть к ответу. И вот вы пишете: “Ах, открой твои пухлые губы!” – и ни одна собака к вам не подкопается, ведь ни одно слово не совпало» [Топоров 2012], – помимо прочего, критик переоткрывает, спустя 30 лет после М.Л. Гаспарова, идею ритмико-синтаксического клише.
195
Должно быть, это потому, что в своих пародиях Буренин, как выражается современная исследовательница и поклонница его творчества Н.Н. Шабалина из Елабужского педагогического университета, «превосходно подхватывает технику поэта и сатирически разрушает изнутри всю его систему, доказывая тем самым, что это стихотворение всего лишь очередной литературный опус» [Шабалина 2012, 144], – а может, и от того, что, как полагает по поводу Буренина В.И. Новиков, «внутренне близки друг к другу политическое мракобесие, человеконенавистническое хамство – и эстетическая ограниченность, неуважение к таинственной специфике непрерывно обновляющегося искусства» [Новиков 1989, 401].
196
Отметим экзотическое удвоение экспрессивности: Троцкий добавляет Брюсову уже не один, а два восклицательных знака. Происхождение второй, «менее известной» цитаты установить не удалось; вообще в своих статьях в «Восточном обозрении» – подцензурной левой газете, испытывавшей постоянные затруднения с цензурным ведомством, – Троцкий обращает к «своим» читателям намеки разной степени прозрачности, и это, вероятно, один из них.
197
Начиная уже хотя бы с того, что устойчивость содержательного и стилистического инварианта текста относительно перестановки его элементов может говорить не столько об их независимости от целого, сколько об ином основании этого целого, холистическом, представляющем части как эпифеномен целого – в этом смысле Андрей Белый в 1910 году, как будто отвечая на требование Троцкого: «Синтеза! Синтеза!» [Троцкий 1926, 169], писал: «“синтез” предполагает, скорей, механический конгломерат ‹…›, “символ” указывает более на результат органического соединения» [Белый 2010, 68].
198
Ср.: «Основной модус художественного видения мира, присущего создателю “Уединенного” и “Опавших листьев”, ‹…› можно было бы обозначить как “патологическую” неспособность Розанова воспринимать мир “извне”, в качестве объекта, иными словами – под знаком “формы” (внешней границы)» [Кулишкина 2004, 7].
199
Ср. также резюме А.А. Голубковой: «В том, что касается эротики, Розанов не чувствует никакого сходства с Брюсовым» [Голубкова 2004, 295].
200
Брюсов, однако, с Гурляндом не согласился, объясняя авторскую пунктуацию соображениями содержательного характера: «После “О” не поставлена запятая во избежание двусмысленности: можно было бы подумать, что поэт обращается к букве “О”, предлагая ему (не ей) закрыть свои “бледные ноги”» [Брюсов 1991, 679].
201
Вообще различные ошибки и неточности в републикациях моностихов поразительно часты для текстов столь небольшого объема, – такое впечатление, что публикаторы просто полагались на свою память. Знаменательно, в частности, что к 135-летию Брюсова критик А. Ганиева, приветствуя классика статьей под названием «Сатана с декадентской бородкой», упоминает «знаменитый и вызвавший много насмешек афоризм
202
Теме соотношения слова и жеста посвящена книга [Цивьян 2010], в которой упоминания о моностихе Брюсова решительно не хватает.
203
Некоторых удивительным образом занимает и поныне: «“О закрой свои бледные ноги” – Брюсов. А зачем их закрывать? И чьи они, а может, лучше – не закрывать. Пусть себе торчат?» [Ляндо 1997, 338].
204
Занятно, что в мемуаре Эрберга Брюсов защищается религиозной трактовкой текста от эротической трактовки – хотя безобидность первой относительно второй вовсе не очевидна: напротив, Б.М. Гаспаров полагает, что эти объяснения лишь усугубляли скандальность ситуации (added insult to injury) [Gasparov 2011, 5].
205
Впрочем, осторожный Шершеневич тут же оговаривается: «Возможно, что это была очередная мистификация, которые очень любил Брюсов», – и, в свою очередь, связывает появление знаменитого моностиха с интересом Брюсова к позднелатинскому автору Авсонию, что, однако, малоправдоподобно: интерес Брюсова к поздним римским авторам возникает десятилетием позже, в частности, к переводам Авсония он обращается только в 1909 г. [Брюсов 1994, 795, 809]
206
Возможно, на это же намекал и А.И. Дейч, сообщая о стихотворении Брюсова, что «вся поэма состояла из одной этой строчки, а дальше следовали лишь многоточия» [Дейч 1914, 110] – при том, что никаких многоточий в публикации «Русских символистов» нет.
207
Забавно, что идею Анненского некритически (с опущенной мотивировкой) воспроизводит С.Н. Тяпков в статье о Брюсове для биобиблиографического словаря «Русские писатели», где упоминается «навеянное Малларме однострочное стихотворение, занимавшее в “Русских символистах” отдельную страницу» [Тяпков 1990, 120]. Ср. также несколько загадочный комментарий Р.М. Дубровкина, замечающего, что Анненский «имеет в виду перенесение самых внешних признаков, а не заимствование поэтической системы» [Дубровкин 1998, 249].
208
Еще более удивительно, впрочем, что некоторым современным специалистам смысл брюсовского текста совершенно ясен: так, Ю.Б. Борев мимоходом замечает, что «поэт-символист В. Брюсов в стихотворении в одну строку откровенно обращается к своей даме: “О, закрой свои бледные ноги!”» [ТЛ 2001, 250], а О.Д. Буренина-Петрова, напротив, специально останавливается на том, что брюсовский моностих, «будучи обращенным к Христу, эквивалентен целому тексту-молитве и ‹…› создается по всем законам символистского сверхтекста, иконически отображающего ритуальный повтор акта творения» etc. [Буренина-Петрова 2005, 117] – даже если вынести за скобки сомнения в том, что гипотетическое закрывание Христом своих бледных ног может служить ритуальным повтором акта творения, остаются непонятными методологические основания, позволяющие однозначно интерпретировать принципиально открытый для разнонаправленных интерпретаций текст благодаря опоре на домыслы мемуаристов.
209
Любопытно, что десятью годами позже сходным способом аргументирует брюсовский зоил В.В. Розанов в связи с «Апофеозом беспочвенности» Льва Шестова: «Авторы пишут или начинают писать “отрывками”, без системы и порядка; но и мы, читатели, не имеем ли неодолимую потребность, начиная с известного возраста, читать тоже “отрывочно”, и, напр., купив книгу, не читаем ее от доски до доски, а только “просматриваем”, т. е. “выуживаем” из нее что-нибудь, почти наугад, а остальное бросаем, переходя к другой книге» [Розанов 1999, 339]. Ср. также у Джорджа Мура о стихах Виктора Гюго: «Никто не читает его, кроме журналистов, цитирующих его в газетах, что, впрочем, разумнее, чем может сперва показаться: ведь сущностное требование к искусству – чтобы оно было редким, другое – чтобы оно был кратким. Из целого стихотворения, как известно, редко мы удержим в памяти больше, чем строфу, и частенько из всей строфы лишь одна строчка остается в памяти» [Moore 1888, 57]. Эта логика рассуждений воспроизводится разными авторами вновь и вновь при обсуждении неравноценности строк в стихотворении – вплоть до эффектной (и очень американской, логично возникающей именно в связи с поэзией Роберта Фроста) мысли о том, что в стихотворении есть суммирующая его смысл строка, которую можно использовать как наклейку на бампер автомобиля [Erhardt 2001].
210
К теме «гипотетических интерпретаций» примыкает проведенный А.О. Маркосянц анализ употребления Брюсовым эпитета «бледный»: показав, что эпитет этот важен для раннего Брюсова (зато после 1906 года практически у него не встречается) и связан преимущественно с темой поэта, исследовательница не рискует, однако, приписать «бледные ноги» образу поэта, замечая, напротив, что «если современники Брюсова упрекали его за ‹…› словосочетание “бледные ноги”, то они имели в виду прежде всего особое, символистское звучание этого слова, неуместность употребления его по отношению к “ногам”» [Маркосянц 1964, 164–165] – кажется, ничто в приведенных нами выше и ниже откликах современников на возможность такого понимания не указывает.
211
Ср. у другого современного прозаика, также в речи персонажа: «Я понимаю, Блока не учить, у этого прекрасного поэта стихи длинные. Но Брюсова… Чего там учить? “О, закрой свои бледные ноги”. Рай для склеротиков» [Савельев 1999, 4]. Вообще востребованность брюсовского моностиха в новейшей русской литературе и массовой культуре довольно высока: чего стоит одна только вереница газетных заголовков с его использованием – особенно склонна к ним почему-то «Комсомольская правда»: «Модный обозреватель “КП” – Саре Джессике Паркер: О, закрой свои бледные ноги!» (16.10.2010), «Дресс-код в России: “О закрой свои бледные ноги!”» (27.01.2011) и т. п.
212
В черновом варианте третьей главы трактата «Что такое искусство?» (1897): «Один в Москве написал целый том совершенной бессмыслицы (там есть, например, стихотворение из одного стиха: “Ах, закрой свои бледные ноги”), и так осталось неизвестно, мистифицирует ли он ту публику, которая браня и смеясь (некоторые и защищают), но все-таки покупает и читает, или он сам душевно больной» [Толстой 1951, 321]. Как замечает С.И. Гиндин, «знаменитое “О закрой свои бледные ноги” было опубликовано не в авторском сборнике, а в третьем выпуске альманаха, и выпуск этот по габаритам своим никак не мог быть назван “томом”. Следовательно, Толстой ни третьего выпуска “Русских символистов”, ни “Chefs d’Oeuvre” не читал и даже и не держал в руках. Возможно, он не помнил и имени осуждаемого им поэта, но что тот пишет чепуху – знал точно» [Гиндин 1996, 118].
213
В статье «Молодым поэтам», напечатанной в 1965 г. в журнале «Новый мир»: «Не всегда легко молодому поэту ‹…› пробиться к читателю. Иной раз для этого ему приходится изрядно поработать кулаками. И очень часто мы видим сначала кулаки этого пробивающего себе дорогу поэта, а потом уже и его самого. Такими “кулаками” были, например, стихи молодого Валерия Брюсова “О, закрой свои бледные ноги!”, в которых еще нельзя было провидеть классически уравновешенного Брюсова поздних лет» [Маршак 1973, 55].
214
У обоих образ бледных ног атрибутирован Иисусу. Волошин в 14-м сонете из венка сонетов «Lunaria» (1913): «И пленных солнц рассыпется прибой / У бледных ног Иошу́а Бен-Пандира»; Сологуб в стихотворении «Под сению Креста рыдающая мать…» (1921): «Оставил Мать Свою, – осталось ей обнять / Лишь ноги бледные измученного сына». В.В. Полонский, сопоставляя эти две аллюзии, отмечает, что Волошин усиливает рискованность брюсовского образа до уровня кощунства (называя Иисуса именем, принятым в антихристианской иудейской литературе и подразумевающим, что он был сыном римского солдата), тогда как Сологуб, напротив, освобождает цитату «от травестирующих установок в сакральной референции» [Полонский 2008, 105–107, 109–110] – кажется, что не последнюю роль в этом освобождении играет инверсия определения.
215
В стихотворении «Незрелость» (1928): «Красот твоих мне стыден вид, / Закрой же ножки белой тканью» (наблюдение И. Мазинг-Делич [Masing-Delic 1987, 356]).
216
В гиньоле «Ералаш» (1970-е гг.) заставивший Брюсова адресовать свой моностих Алексею Маресьеву [Бахчанян 2005, 31].
217
«Всё рефлексии, вопросики, декаденщина
218
Некоторые дополнительные свидетельства о позднейшей реакции на моностих Брюсова можно найти в работе [Иванова 2009].
219
Замечательно, что автор нового перевода этой книги (с идиш на английский язык) Майер Дешелл не поверил в возможность «некогда знаменитого однострочного стихотворения», так что в последнем издании брюсовская строка характеризуется как «припев из некогда знаменитой песни» [Glatstein 2010, 70].
220
Иначе полагает С.Н. Тяпков, отмечающий, что «в своей “поэме” Гиляровский сумел “передразнить” и псевдомногозначительность одностишия Брюсова, и эротический намек, многими прочитываемый в нем, и даже брюсовскую ориентацию на Рим» [Тяпков 1986, 92]. Ни один из трех параметров сходства, предлагаемых Тяпковым, не кажется нам очевидным – и уж во всяком случае «брюсовская ориентация на Рим» едва ли могла быть заметна пародисту в период сразу после появления «Русских символистов», когда вся деятельность Брюсова воспринималась исключительно как апелляция к опыту новейшей французской поэзии.
221
Анализ «Поэмы конца» и сопряженной с нею проблематики значимого отсутствия текста выходит за пределы нашей темы; см. об этом [Крусанов 2010, I:1:542–543, Сигей 1992, 148–152; Brooks 2000, 45–58; Орлицкий 2002, 600–604]. Отдельного исследования заслуживает и рецепция «Поэмы конца», «прочитываемой» (чего, как мы увидим ниже, делать не следует) вне контекста всей книги Гнедова.
222
Параллель между книгой Гнедова и моностихом Брюсова провел и критик Д. Левин (см. [ПРФ 1999, 700]). См. также несколько любопытных соображений о родстве Брюсова и Гнедова в [Кобринский 2000, I:17–19]. В целом же вопрос о преемственности русского футуризма по отношению к символизму широко обсуждался как современной критикой, так и последующим литературоведением; наиболее подробно см. [Клинг 2010].
223
Странным образом С.И. Кормилов полагает, что метрический характер этот текст приобрел «случайно, в силу особой краткости» [Кормилов 1995, 73]. Зато С.В. Сигей видит отсылку к моностиху Брюсова и в другом стихотворении Гнедова, «Op. 16», относящемся к тому же периоду, – в строке «А ножки-то, ножки-то у батюшки беленьки!?» [Сигей 2001a, 203].
224
Возможность «сворачивания» большого текста в малый, поэмы в моностих была, по-видимому, важна для Гнедова, – об этом подробно пишет С.В. Сигей, выделяя среди «излюбленных приемов» Гнедова «коллапс массивной формы» [Сигей 1992, 146]; сюда же замечание Ивана Игнатьева о «стенографировании» как методе Гнедова [Крусанов 2010, I:1:636]. Впрочем, «поэмой» называли и моностих Брюсова – в частности, И.Ф. Анненский, иронически сопоставлявший эту «самую короткую поэму» с гигантской эпической поэмой австрийского поэта-модерниста Теодора Дойблера [Анненский 1979, 328]. Ср. также шутливое упоминание в письме Александра Блока жене, чье домашнее прозвище было Буба: «В одной книге футуриста я нашел поэму, не длинную, касающуюся тебя» (с дальнейшим воспроизведением Поэмы 9 «Бубая горя», состоящей из троекратного повтора слова «Буба») [Блок 1978, 312] – письмо датировано 4 мая 1913 года, так что Блок не преминул ознакомиться с книгой Гнедова по горячим следам.
225
Ср., впрочем, совершенно неожиданную интерпретацию С.В. Сигея, видящего в «Смерти искусству!», равно как и в ряде других текстов русского футуризма, фольклорно-ритуальную основу [Сигей 2001a, 211–212]. Еще несколько любопытных расшифровок и аналогий см. в [Сигей 1992, 146–147].
226
Дж. Янечек, посвятивший значительную часть книги [Janecek 1996a] анализу возможных семантических импликаций в заумных текстах, предлагает также учитывать при интерпретации слова «полынчается» глагол «линчевать», а по поводу слова «душу» отмечает амбивалентность его прочтения в качестве существительного и глагола [Janecek 1996a, 103] – оба предложения вполне невероятны (первое – потому, что из транслитерации русской графемы «ы» английской графемой «y» отнюдь не следует обратное, второе – потому что оно не учитывает метрики текста). Зато слово «полынчается» соблазнительно рассмотреть как результат словосложения «полынь» + «*чается» (от «чаять» с учетом «отчаяться»): обнаружение у Гнедова такого приема сделало бы еще более явной связь «Смерти искусству!» с рассматриваемыми далее моностихами Чернакоты-Галкина и Василия Каменского.
227
Гнедовский «звукопас» имел особую судьбу в русской поэзии, попав в дальнейшем в стихотворение Осипа Мандельштама «От сырой простыни говорящая…» (1935), – на это обратили внимание Е.А. Тоддес [Тоддес 2005, 441–442] (напрасно, впрочем, увязывавший эту неожиданную перекличку с возникновением у Мандельштама под впечатлением от звукового кино интересом к «футуристической эстетике и ее “технократическому” аспекту»: как раз к этому аспекту футуристической эстетики Гнедов не имеет касательства) и Р.Д. Тименчик [Тименчик 2008, 427]; из строки «Знать, нашелся на рыб звукопас» видно, что для Мандельштама семантика этого слова вполне отчетлива.
228
В некотором роде этот прием Гнедова предвосхищает один из системообразующих приемов Льва Рубинштейна, у которого на карточках систематически предъявляются семантически опустошенные, с дефектной референцией фразы типа «Он и полезней, и вкусней». Вообще довольно-таки отчаянные поиски корней и претекстов для поэзии Рубинштейна, приводящие разных специалистов к самым отдаленным и экзотическим аналогиям [Kolchinsky 2001, 98], заставляют задуматься о том, что «Смерть искусству!» в этом качестве была бы не хуже многого другого.
229
Ср.: «Футуристы изживали всё, что бросало тень на их принципиальный разрыв с психологией» [Васильев 1995, 36].
230
Другие интерпретации, предложенные Йенсеном в той же работе, – прочтение «ю» как древнерусской формы указательного местоимения женского рода в винительном падеже или визуальное восприятие буквы Ю как комбинации единицы и нуля, – кажутся малоправдоподобными, хотя и укладываются в его понимание значения заумного текста как продукта читательского творчества.
231
Несмотря на это, к той же догадке, что и Йенсен, вновь приходит Ж. – Ф. Жаккар [Жаккар 2011, 52].
232
Вообще текст Гнедова имеет богатую и не слишком удачную историю републикаций: помимо осуществленного нами отдельного издания, он воспроизводился полностью по меньшей мере семь раз (см., однако, стр. 164–167): Г.Н. Айги [Гнедов 1989], С.В. Сигеем [Гнедов 1992, 43–48], С.Е. Бирюковым [Бирюков 1994, 61], анонимно (главным редактором издания поэтом Сергеем Соловьёвым?) [Гнедов 1994], В.Н. Терехиной и А.П. Зименковым [РФ 1999, 158–159] (репродуцировано в переиздании 2009 г. без изменений), В.Н. Альфонсовым и С.Р. Красицким [ПРФ 1999, 392–394], А.А. Кобринским и О.А. Лекмановым [ОСДО 2001, 476–479]. Качество этих републикаций весьма различно, как ввиду разнообразных ошибок и опечаток (особенно в обоих изданиях 1994 года), так и в силу различной степени точности в воспроизведении графических, орфографических и пунктуационных особенностей оригинала (часть которых, вполне возможно, и не должна воспроизводиться в точности). Отметим еще отдельную републикацию Поэмы 8 в собрании моностихов В.Ф. Маркова ([Марков 1994, 355]) – без надзаголовка и какого-либо указания на принадлежность к целому (что, конечно, нужно признать неправомерным, но при этом рассматривать как свидетельство интерпретации Марковым книги Гнедова именно как книги, допускающей свободное изъятие любого отдельного произведения); попутно следует сказать, что Марков ошибочно приписывает «Поэме конца» название «Пепелье душу» ([Марков 1994, 351]), – впрочем, подобных ошибок памяти не счесть в различных упоминаниях о «Смерти искусству!» и особенно о «Поэме конца», в изобилии рассыпанных по страницам различных мемуаров, относящихся к Cеребряному веку, и в этом отношении «Смерть искусству!» разделяет судьбу других шумно известных авангардных текстов начала XX века (ср., напр., занявший две полные страницы перечень ошибок при воспроизведении и цитировании стихотворения Алексея Кручёных «Дыр бул щыл…» в [Janecek 1996a, 67–68]). Отдельная републикация «Поэмы конца» была предпринята, не без элементов «игровой филологии», М.И. Шапиром и Л.Ф. Кацисом [Гнедов 1990].
233
Которому следуют [Гнедов 1994], [Гнедов 1996] и [РФ 1999], но, к сожалению, не следуют наиболее массовые переиздания [ПРФ 1999] и [ОСДО 2001].
234
Заметим также, что Гнедов вообще использовал тире гораздо охотнее (так, в пяти текстах книги «Гостинец сентиментам» 79 тире при 18 дефисах), а его использование дефисов приближается к нормативному (как правило, в конструкциях с приложениями типа «Бегун-Тоска» и в случаях словосложения типа «огне-лава», «зеленко-мурава»; дефис, соединявший бы две разные части речи, как в случае «Затумло-Свирельжит», у Гнедова не обнаружен).
235
И по умолчанию расценивая их как достоверные – несмотря даже на то, что в одном из мемуаров в качестве автора «Поэмы конца» фигурирует Алексей Кручёных.
236
Ср.: «И это чтение должно было обозначать своеобразный перевод поэтического языка на язык жеста» [Парнис, Тименчик 1985, 227].
237
Ср. [Hollander 1975, 34] о принципиальной неединственности способа прочесть стихотворение или положить его на музыку, [Wysłouch 1994, 175] о принципиальной неединственности экранизации литературного произведения и т. п.
238
Ср. также обратную идею – о том, что текстом «Поэмы конца» является как раз жест, – у С.В. Сигея [Сигей 2001a, 200], указывающего, кроме того, что сам Гнедов считал верным вполне определенное описание своего жеста [Сигей 2001a, 211]. Ю.Г. Цивьян, в свою очередь, квалифицирует текст «Поэмы конца» как «предельный случай слова-жеста» (слова, имплицирующего движение говорящего) – «жест, не заменяющий слово, а отменяющий его» [Цивьян 2010, 24]. К этой же интерпретации, видимо, склоняется А.В. Крусанов, замечающий, что в своей книге Гнедов «фактически переходил от языка слов к языку жестов, языку телодвижений, хореографии, пантомиме» [Крусанов 2010, I:1:635]. Методологически, тем не менее, жест неизбежно остается интерпретацией и переводом по меньшей мере до тех пор, пока его совершение никак не предписано на письме. Правомерно также сопоставить в этом аспекте с «Поэмой конца» и ее исполнением другие нулевые тексты – например, текст Дона Патерсона «Отправившись на встречу с учителем дзена в горы Кюсю и не застав его», тоже вызывающий и рефлексию исследователей по поводу семантики чистого листа (напр., [George 2014, 103–104]), и впечатления зрителей от исполнения его со сцены «неловким молчанием» [Wroe 2006].
239
В остальных републикациях все поэмы «Смерти искусству!» воспроизведены в подбор – за исключением публикации [ОСДО 2001], где «Поэме конца», в отличие от других поэм, выделена отдельная страница: это решение также нельзя признать удачным, поскольку тем самым статус одного из пятнадцати элементов книги оказывается резко отличен от остальных.
240
С другой стороны подходит к этому же выводу Н.Г. Бабенко, указывающая в связи с «Поэмой конца», что «в произведениях, содержащих невербальные знаки молчания, необходимой является некая вербальная рамка, в функции которой входит обозначение “вектора” интеллектуальной и эмоциональной рефлексии читателя» [Бабенко 2003, 68], а потому «белый лист последней поэмы В. Гнедова получает значимость, семантизирующую рамку в виде названия поэмы, лексической структуры и архитектоники всего произведения “Смерть искусства”» [Бабенко 2003, 76].
241
«Это – крестьянин, штукатур по профессии, пожилой человек и безусловный поэт. ‹…› Я терпеть не могу ничего специфически русского в поэзии, но справедливость заставляет меня сознаться, что он очень талантлив, очень. Кроме того, он прекрасный старик», – писал в 1909 году Константину Фофанову о 24-летнем Кокорине 22-летний Игорь Северянин [Северянин 2005, 54].
242
См. также [Тименчик 2008, 19] о двустишии Кокорина, послужившем Мандельштаму источником вдохновения.
243
Вообще говоря, графические особенности публикации дают возможность усомниться в характере этих текстов: если во всех остальных озаглавленных текстах в альманахе названия выделены жирным шрифтом и имеют в конце точку, то в обоих интересующих нас текстах первые строки даны светлыми прописными буквами без какого-либо знака препинания, – что позволяет интерпретировать тексты как двустрочные без названий. Однако предположение о том, что перед нами моностихи, выглядит предпочтительнее. В структурном плане обращает на себя внимание принципиально различное строение первых строк и вторых – такое различие закономерно соответствовало бы позиционной разнице между названием и основным корпусом текста. Как озаглавленные моностихи понимает эти тексты автор первого сообщения об альманахе в газете «Саратовский вестник» за 25 декабря 1913 г., явно черпавший информацию из первых рук: «Первая – строка заглавие. ‹…› Вторая – самое произведение. ‹…› И третья – подпись автора. ‹…› И больше ничего» [Архангельский 1913]. Кроме того, присутствие в альманахе моностихов логично с точки зрения истории его возникновения – см. ниже.
244
Впервые оба текста републикованы в [Тяпков 1984, 70, 72] с опечаткой во втором тексте: «-фонтано-» вместо «-фонотоно-», которую повторяют все последующие цитаты и републикации (в частности, [Кормилов 1995, 73]).
245
Автор двух стихотворных сборников, «крестьянин-самоучка, много лет ходивший за сохой» [Крогиус 1926, 20].
246
В каком-то смысле можно интерпретировать изолированное употребление любого окказионализма как акт завершенной предикации со значением «Верно, что музозвонофонотонопенеигрика <существует>». В данном случае, сверх того, акцентированное словосложение сближает окказионализм Галкина с элементарным типом предикации – первичной именной синтагмой (по Э. Бенвенисту). В связи с этим, по-видимому, целесообразно отнести по крайней мере этот текст Галкина к стиху, а не к «удетерону» (во введенном нами выше понимании термина – см. стр. 29).
247
Другое возможное влияние – стихи Василиска Гнедова из последовавшей за «Смертью искусству!» публикации в альманахе «Небокопы» [Гнедов 1913b]: «Посолнцезеленуолешьтоскло…» и т. д. Это «магмасловие», по выражению С.В. Сигея (который легко включает Каменского в число авторов, которыми «изобретения Гнедова были абсорбированы» [Гнедов 2003, 5–6]), характеризуется, однако, гораздо более сильными деформациями на стыках морфем, вплоть до неопознаваемости некоторых: «извилоизъдоъмкипооянетяликъ» и т. п. Кроме того, во французской поэзии незадолго перед этим – осенью 1916 г. – также появились стихи Пьера Альбер-Биро «из склеенных слов» [Сануйе 1999, 58] (вроде vertigecélestialdesimmensitésspatiales), но здесь, напротив, ликвидация межсловных пробелов не вызывала никаких деформаций на стыках, да и настолько оперативное знакомство с новинками французской поэзии для этого времени – в разгар мировой войны – представляется маловероятным (ср.: «Весть о дадаизме дошла до России поздно. Мы услыхали о нем почти пять лет после его возникновения…» [Эфрос 1923, 119]).
248
«[Каменский: ] Выпустили же в Саратове какие-то провокаторы сборник “Я”.
[Журналист: ] Почему провокаторы?
[Каменский: ] Провокаторы! Азефы! ‹…› Люди, которые могут сделать это, – способны на всякую другую низость» [Архангельский 1914]. См. также [Крусанов 2010, I:2:423].
249
Можно, однако, заметить, что – продолжая лингвистические аналогии – наряду с фузией (*-виночь = вино+ночь) Каменский использует и агглютинацию (*золотороз– = золото+роз – если не предполагать в качестве прокладки испанского «oro» или французского «or»; *-пьювино– = пью+вино).
250
В многочисленных републикациях этого текста в связи с переходом на новую орфографию упущен важный нюанс: пореформенное написание инкорпорированного в окказионализм Каменского слова «россыпь» (вместо следовавшего старой норме «розсыпь») снимает один из вариантов разложения окказионализма – «золото роз» (как максимум заменяя его на куда менее нагруженное семантически «золото рос»). На необходимость восстановить написание через «-з-», не препятствующее вычленению современным читателем элемента «россыпь», мы впервые указали в [Кузьмин 1996, 24]; впоследствии по этому пути пошли В.Н. Альфонсов и С.Р. Красицкий [ПРФ 1999, 252] и А.А. Кобринский и О.А. Лекманов [ОСДО 2001, 426]. В качестве занимательного курьеза следует указать на попытку белгородских филологов истолковать эту орфографическую коллизию как существование двух равноправных вариантов моностиха Каменского, из которых один описывает звездную ночь, а другой (в котором после выделения «роз» у исследователей остается элемент «сыпь») – любовное свидание [Плотникова, Халявина 2011, 54].
251
А значит, и, опять-таки, между стихом/прозой и «удетероном». Думается, однако, что не приходится квалифицировать тексты Каменского как однословные – хотя бы уже потому, что «внутри» их можно вычленить не только слова, но и синтагмы («пью вино», «золото роз»). Вообще рассматривать такие сложные и, в целом, нетипичные для Каменского образования как рядоположные его обыкновенным окказионализмам очевидной бинарной структуры («летайность», «небесон» и т. п.) [Сахно 2014, 110] представляется неточным.
252
Безусловно, квалифицировать эту серию работ Каменского следует как принадлежащую к сфере визуальной поэзии и не относящуюся к поэзии как таковой (см., например, [Стригалёв 1995, 520–522]), но для наших рассуждений это несущественно.
253
Вообще функции такой словесной спайки в поэтическом тексте заслуживают исследования, – нам известен по этому поводу только параграф [Бадаев, Казарин 2007, 114–121], неудачно называющий данное явление «графика сплава» (сплав от спайки отличается тем, что взаимодействующие элементы соединяются отнюдь не только краями) и приходящий к не слишком оригинальному выводу о том, что его использование «чаще всего обусловлено попытками добраться до сути составляющих языковой ткани, предельно нагрузить текст в смысловом отношении, подстегнуть мысль реципиента, уничтожить автоматизм его восприятия». Между тем в русской поэзии этот прием дал такие далекоидущие последствия, как индивидуальная поэтика Александра Горнона, в которой «привычные слова начинают распадаться, обнаруживая внутри себя иные; начало и конец слов соединяются, но при этом зрение и слух должны держать в своем поле “естественное” состояние слова, балансируя между двумя обычно изолированными лексическими единицами; ‹…› более дробное членение (вплоть до отдельных фонем) создает в чтении подвижные элементы звукового потока, которые могут входить в состав как предшествующей единицы, так и последующей» [Березовчук 1995, 268], – у Горнона, однако, решающее значение приобретает архитектоника сложных конструкций, выстраиваемых из такого материала, вплоть до перевода их в тексты тройного кодирования использованием нелинейной записи, местами напоминающей о «Железобетонных поэмах» (на основе которых Горнон создал анимационный фильм); о преемственности между Каменским и Горноном см. [Суховей 2013, 323–325]. Однострочные тексты такого рода в дальнейшем по-русски практически не встречаются – однако они были переизобретены в 1980-е гг. в американской традиции и практикуются рядом поэтов, в том числе принадлежащих к сообществу авторов хайку, – Винсентом Феррини (Vincent Ferrini, 1913–2007), Эмили Романо (Emily Romano, род. 1924), Робертом Генри Пуленом (Robert Henry Poulin, род. 1942) и другими:
Роберт Генри Пулен
254
В этом издании тексту Вермеля ошибочно приписано название «Танка» – вероятно, по ассоциации со сборником Вермеля «Танки» (1915), в котором Вермель вновь вслед за Брюсовым, во второй раз в русской поэзии обращается к форме японского пятистишия [Орлицкий 2000, 63, 68]. В [Бирюков 1994, 60; 2003, 95] заглавия у текста нет, зато в самом тексте две ошибки: «своей» вместо «одной» и пропуск начального «И», – это потому, что его републикация восходит к [Гаспаров 1989, 15], где именно так.
255
Сам Вермель, возможно, рассчитывал на повторение брюсовского и гнедовского скандального успеха: согласно воспоминаниям Сергея Спасского, он говорил: «Мои стихи вызывают раздражение. Меня встретит еще большее недовольство, когда я напечатаю стихи из одной строки», – впрочем, на общий резко недоброжелательный тон мемуаров Спасского (называющего Вермеля, сообразно требованиям эпохи, «типичным эстетствующим буржуа») следует делать поправку: характерно и то, что ритмического своеобразия вермелевского текста Спасский не чувствует, воспроизводя его с ошибками: «И даже кожей своей ты единственная» [Спасский 1940, 62].
256
Любопытно, что современный испанский исследователь Э. Мога, отмечая нередкое появление у авторов разных стран моностихов, которые «разбиваются на два или более предложения, подчас в форме вопросов и ответов», видит в этом приеме, напротив, средство создания «диалектического напряжения, позволяющего единственной строке выйти во множественность голосов или смыслов» (el verso se expande en diversas voces, o pluraliza su sentido) [Moga 2007, 49]. Заманчиво предположить, что основой для разночтений послужило изменение статуса моностиха за без малого столетие: ситуация введения моностиха как новой формы подсказывает «центростремительность» интерпретации (как однострочная форма может осваивать и деформировать разные семантические и синтаксические построения?), ситуация прижившейся формы, полноправно вошедшей в арсенал имеющихся у поэзии выразительных средств, влечет за собой «центробежность» интерпретации (как далеко простираются возможности этой формы, насколько ее могут деформировать другие конструктивные элементы текста?).
257
Биография Окушко установлена А.О. Никитиным [Никитин 2013, 417]. В год создания своей единственной напечатанной книги он, после отчисления с филологического факультета Московского университета и высылки из Москвы ввиду неблагонадежности, работал десятником на каменоломне под Бронницами, 14 февраля 1918 года участвовал в известных выборах короля поэтов в Политехническом музее, а уже 12 сентября того же года – в заседании Рязанского губисполкома с заявлениями о том, что «террор должен проводиться во всех отношениях, ‹…› должно организовать и проводить расстрелы» [Никитин 2013, 28], затем в должности помощника начальника Кавказской трудовой армии отвечал, в частности, за выселение терских казаков (РГАСПИ, ф. 85 Г.К. Орджоникидзе, оп. 11, д. 131, л. 11.), был награжден орденом Боевого Красного знамени и делегирован для участия в X съезде РКП(б), а к году публикации книги занимал должность заместителя управляющего Инспекции советского строительства ЦКК РКП(б), – на свой лад замечательно, что после всего этого у Стефана Окушко не пропало желание опубликовать-таки «Двенадцать сказок на кружевном циферблате судьбы», включая «Сказку в розовом конверте».
258
Из чего, однако, не следует еще, что прототипы эти выведены в романе под собственными именами, так что напрасно А.И. Очеретянский, Дж. Янечек и В.П. Крейд так и включают поэта Аскольда Свешникова в число забытых поэтов-авангардистов начала XX века [ЗА 1993, 254]. На нескольких прототипов указала сама Панова в частной переписке (РГАЛИ ф. 2223 оп. 2 ед. 65 л. 22, 27–28) – в частности, в образе Мишки Гордиенко выведен Владимир Филов (1899–1984), в описываемый период один из лидеров литературной группы ничевоков, в дальнейшем художественный руководитель Барнаульского театра кукол и автор книги «Пугачёвцы на Алтае» (см. также [Никитаев 1992, 60]); сведений о прототипе Свешникова в переписке Пановой мы не нашли, однако легко предположить, что это главная фигура в группе ничевоков Рюрик Рок (1898–1932?): имена Рюрик и Аскольд соответствуют друг другу своей древнерусской окраской, Рок, как и Свешников в романе [Панова 1987, 341], уехал за границу, да и во влюбленной в Свешникова Тамаре Меджидовой узнается жена Рока Сусанна Мар (Чалхушьян). Впрочем, о моностихах Рюрика Рока никаких иных свидетельств нет, а отчетливо ориентированная на имажинизм поэтика его опубликованных текстов не слишком похожа на приводимый Пановой моностих.
259
Первые два текста в составе цикла из 5 стихотворений. В собраниях Маркова [Марков 1994, 355] и Бирюкова [Бирюков 1994, 60] опубликованы как полный цикл из двух текстов под общим названием «Паутинки»; на неправомерность такой трансформации обратил внимание Кормилов [Кормилов 1995, 72].
260
О беспрецедентном для русской поэзии – до 50 % от общего числа строк – количестве длинных метров у Бальмонта см. [Ляпина 1978, 119].
261
Подсчет соотношения низких и высоких звуков по методике, предложенной М.В. Пановым [Панов 1966] для анализа заумной поэзии (воздействие этого соотношения на эмоциональное восприятие текста Панов подтвердил экспериментально), дает в этом стихотворении 16:3, т. е. 84 %:16 % при языковой норме 50 %:50 %.
262
Использованные для разделения текстов в составе подборки полиграфические линейки идентичны отмечавшим начало нового (не озаглавленного) стихотворения в других подготовленных автором изданиях, отчетливые образные, тематические или ритмические взаимозависимости между миниатюрами обнаружить не удается – иного выбора, кроме как квалифицировать все восемь текстов как самостоятельные, нет.
263
Как отмечает, однако, в своем комментарии к новому изданию сочинений Нельдихена М.А. Амелин, «несмотря на то, что Нельдихен в публикациях помечал фрагменты 1920–1921 гг., некоторые из них явно относятся к более поздним годам» [Нельдихен 2013, 367].
264
Разрабатывающая проблему афоризма наиболее подробно немецкая литературоведческая школа, оживленно полемизируя по поводу границ жанра (наибольшая концептуальная четкость выдержана в работе [Fricke 1984], широко критикуемой в связи с тем, что введенные ограничения оставляют за пределами жанра многое из того, что традиционно причислялось к афоризмам, в том числе и ряд произведений XIX века, определенных как афоризмы своими авторами [Spicker 1997, 11–12]), не сомневается в том, что жанр этот существует в рамках прозы. Русская традиция изучения афоризма никак не может освободиться от наследия притязавшего на роль первого исследователя темы полномочного представителя СССР при ООН Н.Т. Федоренко, в порядке почетной отставки получившего кресло главного редактора журнала «Иностранная литература» и статус литературоведа, – а он полагал, что «афоризм как краткое изречение, выражающее оригинальную мысль, часто встречается в поэзии» [Федоренко 1975, 17], не различая при этом афоризм как целостное произведение и афоризм как обособившуюся цитату, «крылатую фразу» [Федоренко 1975, 30–32] и апеллируя в целом не к структуре текста, а к его функционированию в культуре: «сочиненное только тогда становится афоризмом, когда входит в постоянное обращение, принято и широко усвоено живой народной речью» [Федоренко 1975, 31]. Ср. ту же, с позволения сказать, методологию, переформулированную в новейшей манере: «Причисление признака “прозаичность” к разряду инвариантных признаков афоризма противоречило бы эмпирическому материалу (особенно много рифмованных афоризмов содержится в афористических сборниках в их электронной версии в Интернете)» [Ваганова 2008, 14].
265
А потому напрасно, думается, в некоторых позднейших републикациях опущены заключающие текст кавычки, акцентирующие его персонажность. Вообще публикационная история этого текста показательна: в частности, два наиболее полных посмертных издания Сельвинского – несмотря на то, что в обоих случаях комментаторы утверждают, что публикация осуществлена по [Сельвинский 1931, 42], – дают этот текст с различной пунктуацией:
[Сельвинский 1971, 10]
[Сельвинский 1972, 62]
– вторая из этих версий основана на второй прижизненной публикации [Сельвинский 1934, 157], а первая, видимо, вообще ни на чем не основана.
266
Впрочем, и Бурлюк во втором и последнем опубликованном моностихе двинулся к иному решению: вместо метрически очевидной, но ритмически довольно бедной сентенции – игровая конструкция с рискованно кратким для моностиха метром (двухстопный анапест) в сочетании с эффектным звуковым повтором:
– также в составе цикла с квазижанровым названием: «Поэтические уховёртки» [Бурлюк 1932, 17].
267
«Козловая» вместо «Козлевая», «Серебрей» вместо «Сереброй», «Бубая гора» вместо «Бубая горя», «Рабкот» вместо «Робкот». Особенно характерно, что верно воспроизведенное в журнальной публикации заумное слово «затумло» в книге 1929 г. превратилось – явная опечатка – в «загумло», да так и осталось во всех последующих переизданиях. В то же время отметим, что в Поэмах («песнях») 3 и 4 дефисы первоиздания, предвосхищая конъектуры С.В. Сигея, выправлены на тире.
268
Любопытна также написанная по горячим следам пародия на роман Сергеева-Ценского, принадлежащая сатирику Арго и начинающаяся словами: «Затумило. Скрымь солнца, разломченная, свирельжит в Просторечьеве» [Новиков 1989, 455], – используя стихи Хаджи-Гнедова как зачин своей пародии, Арго фактически выделяет их как самый яркий языковой штрих в тексте Сергеева-Ценского, одновременно производя частичную нормализацию гнедовской зауми, особенно на уровне синтаксиса. Представляет интерес и следующая фраза пародии: «Воздух насыщен электричеством, духами, запахом свежего варенья, а также “Шиповника” (альманаха на 1912 год)», – в которой можно увидеть намек на распознание первоисточника: ведь именно в «Шиповнике» (правда, не в 1912, а в 1913 году) К.И. Чуковский писал о Гнедове и цитировал его.
269
В первой публикации с подзаголовком «Одностишие», при всех републикациях опущенным.
270
Возможно, однако, что текст Гатова написан и раньше, во время пребывания во Франции или по его горячим следам. Рецензируя в 1967 г. книгу избранных стихотворений Гатова «Влюбленным всей земли», Илья Сельвинский вспоминал: «Однажды в Париже мы посетили Пабло Пикассо. ‹…› Среди картин висел на стене портрет какого-то мужчины. Пикассо сказал, что эта вещь написана им в возрасте четырнадцати лет. Я был потрясен зрелостью этой работы. ‹…› Картина изображала человека лет сорока. Лицо его носило на себе линии всех пороков. Мне вспомнилось замечательное стихотворение Гатова, называлось оно “Повесть” и состояло из одной-единственной строки: Он в зеркало смотрел, как в уголовный кодекс. Я рассказал об этом Пикассо. Художник задумался, потом промолвил: “Votre Gatoff… Il est un vrai poète”. “Пикассо прав, – добавил Луи Арагон по-русски. – Гатов большой поэт, раз он сумел сотворить такой маленький шедевр”» [Сельвинский 1967]. Рецензия эта была написана по просьбе самого Гатова: «Вот бы Вам, моему другу, написать две страницы о моих стихах, кстати привести новеллу о Пикассо и о “Повести”…» (письмо от 9.01.1967, РГАЛИ, ф. 1160 оп. 1 ед. 196 л. 5). Описываемый эпизод должен относиться к концу 1935 или началу 1936 г., когда Сельвинский побывал во Франции (см., напр., [Безыменский 1982]); отметим, что по возвращении из этой поездки Сельвинский начал работать в отделе поэзии журнала «Октябрь», где в конце концов было напечатано стихотворение Гатова [Озеров 1982, 368].
271
Спустя много лет Гатов обратится к Сельвинскому с характерными словами: «Мы с Вами сверстники, и, думается, мы – неплохое поколение, – хотя путь у нас куда труднее, чем напр. у символистов, которых мы в юности застали еще в полной их силе» (письмо от 4.11.1959, РГАЛИ, ф. 1160 оп. 1 ед. 196 л. 4об), – для вполне ортодоксального советского автора параллель довольно красноречивая.
272
При таком громком резонансе моностиха Гатова в конце 1930-х гг. довольно странно обнаружить в [Кормилов 1995, 74] его датировку 1950-ми – особенно если учесть, что навсегда напуганный Гатов сам это свое сочинение больше никогда не публиковал: оно появлялось в печати только в составе хрестоматий и антологий.
273
В дальнейшем пополнивший свой вклад в советскую литературную критику не менее патетическими строками о том, как «реакционно настроенный акмеист Осип Мандельштам, склонный к метафизическому философствованию, объяснял свое враждебное отношение к революционной действительности» etc., а затем и сам попавший под раздачу в газете «Правда» как «глава критиков-формалистов – буржуазных эстетов», «унаследовавший гнусные методы космополитов» [Тименчик 2005, 315].
274
МИТИНГ
– исключительно емкая картина советского митинга с подразумеваемым единогласием и смертельной опасностью любого диссидентства создается благодаря актуализированной омонимии фразеологизмов: «поднимать руку» (голосовать) и «поднимать руки» (сдаваться).
275
В.И. Тюпа видит в этом тексте «устранение объекта, открывающее путь к автореферентности высказывания» – характерным образом цитируя его без названия в своем сочинении о вреде авангарда [Тюпа 1998, 29]: в действительности анонсированная названием диалектика кубанёвского подхода к субъекту состоит в его функциональной нетождественности самому себе, взятому в разных аспектах: предметном и инструментальном, отправном и целевом (не говоря уже о том, что и само по себе возвратное местоимение чревато диалектическим единством субъекта и объекта) – и от этого очень далеко до солипсизма и нарциссизма.
276
Ср. в многострочных текстах Кубанёва того же ноября 1939 г.:
или
277
Словарь Даля фиксирует «утор» как отглагольное существительное от «уторять» (утаптывать, о дороге) и множественное «уторы» со значением «нарезка в ладах или клёпках обручной посуды, для вставки дна», на второе значение пример: «Бочка потекла уторами». В обоих значениях слово легко встает в позицию объекта по отношению к субъекту «вода», однако семантика глагола при этом остается не вполне проясненной. Впрочем, словари XX века знают только второе значение слова.
278
Ср. размышления И.Е. Винокуровой об ориентации молодых поэтов рубежа 1930–40-х гг. на футуризм и словотворчество раннего Маяковского и идеологическую заостренность позднего Маяковского [Винокурова 2006, 139–141].
279
Евгений Евтушенко предваряет книгу 1989 года предисловием, включающим мемуарный эпизод: «Помню, как однажды во время разговора о силе интонации в становлении личности поэта Луконин вдруг озарился улыбкой, процитировав мне стихотворение Глазкова о футболистах… И действительно – какая чистая, лукавая и в то же время грустная интонация» [Евтушенко 1989a, 4]. Нет, впрочем, полной ясности относительно того, какую из редакций глазковского стихотворения цитировал Луконин: в первой версии статьи Евтушенко фигурировало «стихотворение Глазкова о футболистах, которое начиналось так» [Евтушенко 1971, 24], в следующей – «стихотворение Глазкова о футболистах, которое кончалось так» [Евтушенко 1989b, 406]. Сам Луконин, упоминая о стихах Глазкова, которые «не печатались, а помнились нами, вызывая наши восторги», характеризует эту строку как «выпадающую из ритма и смысла», то есть явно взятую из многострочного текста [Луконин 1973, 444].
280
Ср. аналогичную ситуацию с дошедшими в воспоминаниях и записях современников одиночными стихотворными строками Александра Введенского – например, в письме Владимира Смиренского Лидии Аверьяновой 15 января 1926 года: «Мне очень понравилось, как написал Введенский: Крадётся хитрый сыр ‹…›» [Мейлах 1993, 211]. Наиболее авторитетное собрание сочинений Введенского включает, буквально по образцу собраний Анакреона и других античных авторов, семь однострочных фрагментов подобного происхождения [Введенский 1993, 85, 92, 93, 95, 97, 99] – и это, видимо, к ним относится загадочное замечание О.Д. Бурениной-Петровой: «Можно предположить, что некоторые так называемые фрагменты утерянных сочинений Введенского ‹…› были, скорее, своего рода моностихами, подобными брюсовскому “О закрой свои бледные ноги!”, а отнюдь не частями недошедших до нас произведений. Для Введенского, как и для символистов, моностих являет собой сверхнарратив, стремящийся компенсировать нереализованность гипотетического дискурса о Gesamtkunstwerk’е, и одновременно его негативное подобие» [Буренина-Петрова 2005, 159], – затруднительно судить о том, что являет собой моностих для Введенского, на основании фрагментов, извлеченных из его текстов другими лицами.
281
Ср. в мемуарном очерке Маркова перечень поэтов, интересовавших его самого и кружок его друзей-однокурсников, – Тютчев, Баратынский, Блок, Маяковский, – завершающийся замечанием: «Однажды, из другой компании, попалась к нам “Вторая книга стихов” Заболоцкого с поразившей нас надписью: “Дарю тебе книгу величайшего поэта наших дней”. У них, значит, был культ Заболоцкого» [Марков 1955, 174].
282
Из неопубликованного письма Маркова Г. П. Струве от 25 апреля 1963 г., о котором сообщил нам О.А. Коростелёв, явствует, что какие-то издания Хармса Марков получил от своей сестры Нины, жившей в Ленинграде; но значит ли это, что у сестры Маркова могли возникнуть связи с людьми, располагавшими неизданным наследием Хармса? А если в распоряжение Маркова попала копия воспоминаний Зегжды (их машинопись из личного архива Александрова датирована 1962 годом [Дмитренко, Кобринский 2009, 453] – не по заказу ли Маркова они написаны?), то почему он дает текст Хармса в другой редакции?
283
См., напр., у М.Б. Ямпольского: «Я отмечал, что хармсовский текст начинается с амнезии, с забвения собственного истока. Это текст, как бы не имеющий начала. Но текст Хармса в подавляющем большинстве не имеет и конца. Тексты Хармса систематически обрываются, часто вместо конца фигурирует исчезновение, то есть фигура незавершенности» [Ямпольский 1998, 192]. М.С. Евзлин распространяет это положение дел на всех обериутов, отмечая, что (в частности, у Игоря Бахтерева) «нет ни одного окончательно зафиксированного текста» [Евзлин 2013, 11]. Ср. также уже упоминавшуюся концепцию «недоопределенности» Н.М. Азаровой [Азарова 2008].
284
Принадлежность этих текстов Пушкину была оспорена Л.Б. Модзалевским: «Обратившись к этому автографу, мы, проведя тщательную экспертизу почерка, пришли к бесспорному выводу, что рукопись с этими шуточными стихами писана рукою Льва Сергеевича Пушкина, почерк которого уже не раз вводил в заблуждение специалистов, вследствие своего разительного сходства с почерком его брата. Нет сомнения, что и самые стихи принадлежат Льву Пушкину, большому любителю литературы, “презревшей печать”, и упражнявшемуся вместе с С.А. Соболевским и И.П. Мятлевым в писании подобных стихотворений. ‹…› Стихотворные “пакости”, введенные в литературный оборот братом великого поэта, должны быть навсегда изъяты из собрания сочинений Пушкина» [Модзалевский 1936, 220] – замечательно, что Модзалевский, чуть выше подробнейшим образом описавший внешний вид листка со стихами, не приводит ни одного конкретного почерковедческого наблюдения, приведшего к “бесспорному выводу”. Несмотря на ироническую реплику М.А. Лифшица («Кажется, что если прав Брюсов и указанные экспромты написаны все же самим А.С. Пушкиным, то особенного позора для русской литературы в этом нет. Пафос стыдливости слишком громко звучит в небольшой заметке Модзалевского» [Лифшиц 1936]), охранительный жест, исходивший из академической Пушкинской комиссии, был воспринят, и в дальнейшем эти миниатюры под именем Пушкина не публиковались.
285
Вообще при работе с рукописями Хармса достаточно часты ошибки исследователей, принимающих за его оригинальные тексты те или иные сочинения других авторов, с той или иной целью Хармсом переписанные. Одну такую ошибку, принадлежащую Ж. – Ф. Жаккару, обнаруживает сам Кобринский [Кобринский 2000, I:47]; восемью годами раньше Жаккар с соавтором отмечают аналогичную ошибку П. Урбана [Гроб, Жаккар 1992].
286
В отличие от других публикаторов Хармса В.Н. Сажин стремится воспроизводить особенности хармсовской орфографии и пунктуации – отсюда авторское написание «нука» вместо нормативного «ну-ка». Этот текстологический принцип неоднократно встречал как резкие возражения (см., напр., [Мейлах 2004, 136–137]), так и решительную поддержку ([Шапир 2015]).
287
Ср. также рассуждение А. Уоннера о моностихах Брюсова и Гнедова как предшественниках прозаической миниатюры Хармса – для этого, однако, Уоннеру приходится квалифицировать моностихи как минимальные стихотворения в прозе [Wanner 2003, 132–133].
288
О зауми и словесных деформациях у Хармса см. также [Мейлах 1999, 18–26].
289
Напрямую к делам давно минувших дней французские модернисты по данному вопросу апеллировали не в большей степени, чем русские – к Карамзину, но возможно, что в обсуждении подобной идеи Вильдраком и Дюамелем сыграл роль более поздний прецедент – история про заявление Теофиля Готье о том, что во всем наследии Жана Расина замечателен единственный стих:
Готье такого не писал, но в одном из его некрологов (1872), принадлежавшем Максиму Гоше (1828–1888), рассказывалось в качестве литературного анекдота, что на некотором званом ужине около 1867 г. Готье высказался таким образом, чтобы подразнить присутствовавших «профессоров риторики» (однако, замечал Гоше, «здесь и основание его поэтики – ‹…› безразличие к идее и подлинный культ звука и цвета») [Wise 2002, 13]. Оттуда, уже безо всяких оговорок о не вполне ответственном характере утверждения, максима Готье перекочевала в «Эстетику современного стиха» Жана Мари Гюйо [Guyau 1884, 261] (и далее в антимодернистский трактат Макса Нордау «Вырождение», 1892–1893, – который, как показал Р. Вроон, был прочитан Брюсовым уже к середине 1893 г. и стал для него, как и для других молодых русских читателей, ценным источником сведений о французском символизме [Vroon 2002]), книгу эссе Робера де Монтескью «Мыслящие тростники» [Montesquiou 1897, 233] и наконец в роман ученика Гоше и воспитанника Монтескью Марселя Пруста «По направлению к Свану» (1911), благодаря чему сам расиновский стих в изолированном виде широко обсуждался в последующей литературе, преимущественно в аспекте изысканной звуковой структуры (в пику чему Ролан Барт использовал его как иллюстрацию своего требования к литературной критике – порождать смыслы: критик, занятый этой строкой, должен «установить такую смысловую систему, где ‹…› смогли бы занять свое место хтонический и солярный мотивы» [Барт 1989, 361]; о том же см. [Goldmann 2007, 107–108]). Впрочем, воспоминания Максима дю Кана приписывают мысль о том, что эта строка Расина – «лучший стих на французском языке», Гюставу Флоберу и относят ее к 1850-м гг. [Du Camp 1883, 186] – и этой версии следует В.Ф. Марков, упоминая «полюбившуются Флоберу расиновскую строку» как прообраз «однострока-романа» [Марков 1963, 251].
290
Опубликованные переводы Владимира Маркова:
[Марков 1994, 353]
и Игоря Бойкова:
[Аполлинер 2005, 43]
– основаны, таким образом, на недоразумении (впрочем, Аполлинер Бойкова в целом представляет собой недоразумение [Яснов 2006]).
291
Отметим, однако, попутное замечание М. Пупона, согласно которому в стихотворении, помимо прочего, зашифрован Орфей, слушающий пение сирен; образ сирен многократно возникает у Аполлинера, и присоединяющаяся к этой трактовке М. Буассон готова даже видеть в cordeau еще и chœur d'eau [Boisson 1989, 508], но нам особенно интересно, что в развитие этой идеи Ф. Диненман предлагает производить trompettes marines из одного места в чуть более раннем стихотворении «Вандемьер», где взгляд сирен trompa les marins, «морочил моряков» [Dininman 1984] – и такое происхождение однострочного текста из многострочного напоминает уже о соображениях С.В. Сигея по поводу Василиска Гнедова. Впрочем, обсуждалась и возможность того, что моностих Аполлинера возник как осколок неоконченного текста [Decaudin 1993, 47] – как у Брюсова и многих других (А. Зьегле отмечал, однако, что ведущая к отбрасыванию уже написанного самокритичность Аполлинеру свойственна не была [Ziéglé 1971, 627]). Еще одна трактовка, мимо которой нельзя пройти, связана с тем, что trompette marine называет своим любимым музыкальным инструментом господин Журден из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» (действие второе, явление первое; в русских переводах дословно «морская труба») – тот самый Журден, который далее, в седьмом явлении, изъявляет настойчивое желание выражаться «ни стихами, ни прозой» – встречая возражение Учителя философии: «Всё, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза»; такая интертекстуальная увязка, по мнению некоторых французских специалистов, превращает моностих Аполлинера в акт метапоэтической рефлексии [Joubert 2010, 186–187].
292
Имеется перевод Михаила Яснова ([Береговская 1998, 50–51]):
I
II
III
IV
– в публикации опущено издевательское bis в конце второго моностиха, а в переводе четвертого текста утрачена убийственная ирония.
293
«Смысл словно за пределами слов – и все же подсказан ими, их звуком, их формой, образами, которые из них проступают… В этот миг поэзия растворяется в своего рода цветной музыке. И тут же, для равновесия, насмешка, возвращение к банальности, столь печальной и горькой, когда она подвергается осмеянию или просто когда она очень сильно ощущается как таковая» etc.
294
Речь идет о галопирующей инфляции в Германии начала 1920-х гг.
295
Видеть здесь тонкую отсылку к «Временам года» графа де ла Турай, вероятно, было бы преувеличением. Преувеличивает, вероятно, и М.Ж. Дюрри, воспроизводящая эту историю (по пересказу из [Bersaucourt 1921, 10]) для того, чтобы заметить, что первые читатели аполлинеровского «Поющего» были столь же изумлены, сколь собеседник Вилье де Лиль-Адана [Durry 1964, 107].
296
«… de façon que “La Pénultième” finit le vers et “Est morte” se détacha de la suspension fatidique plus inutilement en le vide de signification» [Малларме 1995b, 174]; в русском переводе Романа Дубровкина этот смысловой акцент выпущен: «Сначала “Флексия”, а потом, тоном ниже: “Мертва”» [Малларме 1995b, 175].
297
Статья Ж. – Л. Аруи «Верленовский моностих» [Aroui 1994] начинается с констатации отсутствия у Верлена собственно моностихов и посвящена использованию Верленом одностишия, изолированного стиха.
298
Строка Верлена, приписанная к длинной пародии Валада на Эжена Манюэля – почтенного поэта и крупного чиновника, чьи стихи, как заметил позднее В.В. Вейдле, «продолжали читать разве что в пансионатах для благородных девиц» [Вейдле 2002, 267], – гласит: «Да, Манюэль! о да! – ведь наши души сёстры!» [Album 1961, 121], – ясно, что в выхваченном из альбома виде она не имеет смысла.
299
Исключение составляют статьи македонского поэта Петко Дабески (наиболее подробно [Дабески 2007]), опирающиеся на современные российские исследования и вряд ли известные за пределами Македонии. Еще о Брюсове, возродившем однострочную форму после античных времен (что все же некоторое преувеличение), вскользь упоминает в статье на совершенно постороннюю тему Ф.Л. Алдама [Aldama 2014, 142].
300
Мимолетные замечания зарубежных исследователей в связи с брюсовским моностихом либо вполне тривиальны: «искусство намеков» (l'art de la suggestion) [Stremooukhoff 1955, 306], «хулиганское сочинение» (piece of hooliganism) [Pyman 1994, 72], – либо агрессивно-поверхностны: так, П.У. Мёллер пишет, что Брюсов постоянно использовал эротизм как средство привлечь внимание публики [Möller 1988, 278], а в рецензии на [Марков 1994] неожиданно утверждается, что основной скандальный пуант брюсовских «бледных ног» состоял в двусмысленности глагола «закрой» (cover/close) [Croft 1995, 1064] – довольно очевидно, что во втором, более фривольном значении по-русски глагол «закрыть» (вместо «свести» или «сжать») невозможен.
301
Интересно, что в XXI веке потребовался новый перевод брюсовского стихотворения на английский язык – его осуществили Марго Шоль Розен и Григорий Дашевский:
[Dedalus 2007, 33]
302
Дж. Кейшиан замечает, впрочем, что «практически все английские образцы моностиха импортированы из других языков – брюсовского русского, аполлинеровского французского» [Kacian 2012, 39], – но, к сожалению, не поясняет, что в истории англоязычного моностиха видится ему именно брюсовским следом (аполлинеровский, как мы увидим ниже, прослеживается без труда).
303
При дальнейших републикациях Унгаретти добавил к тексту указание на место и время действия: «Куртонский лес, июль 1918 года» – тем самым не только приурочив написанное на несколько месяцев раньше стихотворение к самому кровопролитному сражению итальянских войск на французском фронте (эпизод Второй битвы на Марне), но и усилив мотив ожидания гибели в будущем (поскольку мысль об осени датирована летним месяцем).
304
И недаром – потому что даже спустя почти полвека итальянская критика подозревала в однострочной французской версии прозу, «дневниковую запись» [Cambon 1976, 14]. Дж. Кэри более справедлив, указывая на ритмическую близость моностиха Унгаретти к александрийскому стиху, но и ему представляется неоправданной принесенная в переводе жертва (итальянский текст построен, помимо прочего, на синтаксической непоследовательности: начинаясь в единственном числе, он заканчивается во множественном, – эффект сильнее, чем в русском переводе) [Cary 1993, 163–164], – странным образом при этом не берется во внимание, что во французской версии прием не потерян, а перевёрнут: моностих начинается во множественном числе, а заканчивается в единственном. См. также стр. 343–344 по поводу графики этого текста.
305
В оригинале моностих озаглавлен «Голубка». У Маркова опущено название, а птица в тексте поменяла пол. Двустрочная редакция 1925 года была озаглавлена «Соловей»:
– резкое расхождение ритмического и синтаксического членения, нанизывание однотипных «вложенных» дополнений и столкновение двух «птичьих» образов делают эту версию гораздо более герметичной, так что радикализация формы в данном случае сопровождалась упрощением высказывания – чего не наблюдалось во французских автопереводах.
306
Статус текста Альтолагирре как моностиха не лишен проблематичности, поскольку он напечатан не на одной странице, а на пяти, по слову на каждой; названием, однако, поэт предлагает соотносить его именно с моностихом, а не с короткострочным пятистишием.
307
У позднейших специалистов встречается квалификация «Тени сороки» как единого многочастного текста [Krupat 1989, 113; Kostelanetz 2001, 674]; ни в структуре книги и отдельных текстов, ни в высказываниях автора и отзывах современников мы для этого оснований не видим.
308
Имеется в виду апострофа, риторическая фигура: обращение к отсутствующему лицу.
309
Имеется в виду рассказанная в «Десяти книгах об архитектуре» Витрувия история о том, как молодой архитектор Дейнократ предложил Александру Македонскому высечь из Афона его статую.
310
Здесь цитируется предисловие Джона Хемингса и Генри Конделла к так называемому «Первому фолио» – изданию шекспировских пьес 1666 года.
311
Мысль о Сведенборге как своего рода поэте и, в частности, наследнике и сопернике Мильтона неоднократно обсуждалась в XIX веке и на американской почве связана, прежде всего, с именем Ральфа Уолдо Эмерсона.
312
Это подлинная фраза из книги Сведенборга «Истинная христианская религия», в которой в английском переводе Джона Эйджера, опубликованном незадолго до этого, возникла случайная внутренняя рифма: «As they had no swords, they fought with the points of words» [Swedenborg 1889, 473] (в латинском оригинале Сведенборга, разумеется, ни рифмы, ни иных признаков стихотворности нет: «Quia non erant illis enfes, acuminibus verborum pugnabant» [Swedenborg 1771, 214]).
313
Строго говоря, в обеих публикациях Томас не утверждается, что приведенные моностихи ею же и сочинены, хотя подводящая к стихотворной части риторическая проза, безусловно, прочитывается как рамка того же авторства. Однако есть и другая возможность, на которую указывает третья публикация моностихов, появившаяся вновь в журнале «The Critic» за подписью С.Р. Эллиот [Elliott 1897]. Сэмюэл Р. Эллиот (Samuel R. Elliott; 1836–1909), медик и литератор-любитель, был тесно связан с Томас: в том же «The Critic» он опубликовал о ней панегирическую статью [Elliott 1898], в модном журнале для дам «Delineator» – серию бесед с ней («Женщины и музыка», «Женщины и война», «Женщины и бизнес» и т. п.), а путеводитель по Коннектикуту прямо сообщает, что в загородном доме Эллиота Томас постоянно проводит лето [Abbott 1907, 69]. Поэтому, несмотря на отличия этой публикации от предыдущих – 10 однострочных стихотворений без прозаической рамки и общее название «Одинокие строки» (Solitary Lines) без употребления слова «моностих», – можно было бы предположить, что и в «The Atlantic Monthly» моностихи написаны Эллиотом или хотя бы при его участии. Сами моностихи третьей публикации кардинально не отличаются от уже рассмотренных:
НОВЕЙШИЙ ИКАР
ЖЕМЧУЖИНА
ТУМАН
314
История этой строки также представляет определенный интерес для нашей темы. Крэшо (1612? – 1649) опубликовал в 1634 г. латинское четверостишие-эпиграмму, заканчивавшееся строкой с этим образом: Nympha pudica Deum vidit, et erubuit [Crashaw 1873, 96] (то, что вода, превращаемая Иисусом в вино, здесь предстает в образе стыдливой нимфы, то бишь представительницы языческого пантеона, можно списать на барочную неразборчивость, – впрочем, предлагалась и конъектура: lympha 'жидкость' вместо nympha). Существует несколько переводов этого четверостишия на английский язык, однако широкой известностью пользуется только цитируемый Хейр перевод заключительной строки, приписываемый юному Джону Драйдену (1631–1700): по легенде, Драйден, будучи школьником, представил эту единственную строчку в качестве домашнего сочинения на заданную тему о соответствующем евангельском эпизоде – как писал в 1874 году анонимный американский автор, «это было его первое сочинение в стихах, и оно предвещало бессмертие» [Pen & Plow 1874]. Перед нами, таким образом, характерный пример читательского моностиха.
315
Характерным, хотя и дальним следствием этого поворота можно считать практику англоязычного японского поэта Ёрифуми Ягути (Yorifumi Yaguchi; род. 1932), под влиянием западной поэзии заметно отошедшего от своих лежащих в традиции хайку корней, но сохраняющего определенный след поэтики хайку [Birky 2003, 559] – в том числе и в однострочных стихотворениях.
316
Поскольку до этого Ходжсон шесть лет провел в Японии и занимался, в частности, переводом поэтической антологии «Манъёсю», влияние хайку и танка на его поэтическое мышление обсуждалось; впрочем, отмечает в связи с этим Т. Сайто, склонность к сверхкраткой форме проявилась у Ходжсона еще в стихах 1910-х годов [Saito 1962, 158] – и, действительно, в них больше от постромантической георгианской декларативности:
[Hodgson 1961, 169, 174]
317
Первая публикация моностихов Лошака, впрочем, относится к 1929 году [Lochac 1929], совпадая по времени с развернувшейся во французской прессе полемикой по поводу эстетической самоценности одинокой строки, возникшей в связи с публикацией отрывков из рукописного наследия Жозе Марии Эредиа [Breunig 1963, 316–319]; публикатором и инициатором полемики выступил близкий к Аполлинеру Жан Руайе (1871–1956), и он же опубликовал моностихи Лошака в своем журнале «Le Manuscrit autographe». В том же году, как отмечает Л. Брейниг, появился и сатирический рассказ Леона дю Гриффа «Записки провинциала», герой которого не только готовит к публикации книгу однострочных стихотворений, но и в быту разговаривает одностишиями александрийского стиха. Лошак, впрочем, двинулся дальше и в 1949 г. выпустил вторую книгу однострочных текстов [Lochac 1949], составив ее полностью из восьмисложников и дав подзаголовок «Микроны» (Micrones); эта публикация, однако, осталась не замечена критикой. Справедливости ради нужно отметить, что, хотя даже во Франции линию развития моностиха нередко ведут напрямую от Аполлинера к Лошаку [Tortel 1986, 3], между ними находится Поль Элюар, опубликовавший в 1925 году книгу однострочных текстов «152 пословицы на потребу дня» (в соавторстве с Бенжаменом Пере) [Eluard 1925], а затем еще несколько моностихов на рубеже 1920–30-х.
318
Пиллат сформировался как поэт во Франции, где жил с 1905 по 1914 гг., хотя современные ему специалисты и относили увлечение французской традицией, будь то парнасская школа или символисты, к числу юношеских «соблазнов», преодоленных в его зрелом традиционалистском творчестве [Lovinescu 1927, 97]. Критический резонанс, вызванный моностихами Пиллата в Румынии, был довольно значителен [Chelaru 2011, 28, 54] (см. также стр. 52), однако революционера Аполлинера в связи с неожиданным жестом почтенного мэтра не вспомнили – но французский след все равно был заподозрен. Как сообщает восстановивший хронологию событий М. Келару [Chelaru 2011, 45–47], Дж. Кэлинеску опубликовал статью «Ион Пиллат и Эмманюэль Лошак» [Călinescu 1936], намекавшую на зависимость румынского автора от французского, Пиллат ответил в прессе решительным опровержением, указав, что первая публикация его моностихов состоялась в январе, моностихи Лошака были опубликованы в парижской периодике в мае, а в марте сам Пиллат побывал в Париже и оставил своему другу Люсьену Фабру свои тексты, с которыми французская литературная общественность могла ознакомиться. Намекнув тем самым на то, что это Лошак украл у него идею (что никак не может соответствовать действительности: на самом деле первая публикация моностихов Лошака состоялась намного раньше), Пиллат резюмировал: «Я никогда не встречал стихотворения в одну строку (или моностихи, если пользоваться этим варваризмом) ни в одной известной мне зарубежной литературе – и не встречал даже обсуждения этой поэтической идеи» [Pillat 1936], – однако поверить, что в 1913 году, находясь в гуще парижской поэтической жизни, он не ознакомился со свежим томиком аполлинеровских «Алкоголей», довольно трудно.
319
Концепция «поля литературы» Пьера Бурдьё, предполагающая его подразделение на «субполе ограниченного производства» (элитарной литературы, адресованной здесь и сейчас узкому экспертному кругу, но в долгосрочной перспективе определяющей ход культурной эволюции) и «субполе широкого производства» (массовой литературы, рассчитанной на немедленный материальный успех) [Bourdieu 1992, 302], при всей своей широкомасштабной объяснительной силе разработана применительно к западной литературе рубежа XIX–XX веков, так что «к другим периодам и национальным традициям и к другим состояниям поля эта модель приложима только mutatis mutandis» [Гронас 2000, 15]. Именно мутацией бурдьеанской категории субполей и является, собственно, эмпирически очевидное описание русской литературы второй половины XX века как слабо взаимодействующих страт официальной и неподцензурной словесности. Менее очевидна правомерность рядоположной квалификации третьей страты – литературы русской эмиграции, но для нужд нашей работы это несущественно.
320
Напротив, Д.А. Суховей возводит генезис этого приема у Виноградова к Каменскому, противопоставляя линии Каменского и Гнедова в последующем употреблении голофразиса в русской поэзии [Суховей 2008, 122].
321
Ср., напр.: «С начала 50-х годов ‹…› определяющую роль начинают играть несколько приватных художественных кружков, где вокруг ветеранов “левого фронта искусств” и бывших акмеистов группируется творческая молодежь. Они становятся центрами, откуда самиздат расходится по всей стране. Таких центров было несколько. Один из них – дом ленинградского философа Я.С. Друскина, друга Александра Введенского и Даниила Хармса, сохранившего их рукописи вопреки всем превратностям судьбы» [Кривулин 1997, 344].
322
Уж не поэтому ли этот текст не включен в собрание В.Ф. Маркова? См. прим. 330 на стр. 214.
323
При том, что соотношение иронического и философского в моностихах Гатова и Сельвинского нам, как было замечено выше, видится достаточно близким. Несколько преувеличенная, на наш взгляд, серьезность, с которой Сельвинский трактует моностих Гатова, хорошо корреспондирует с реакцией критики 1930-х гг. (см. стр. 169–170).
324
Стоит отметить, что в том же 1958 году был опубликован и «Сентиментальный роман» Веры Пановой, не без симпатии описывающий сцену чтения юным авангардистом своей однострочной поэмы в Ростове-на-Дону 1920 года (см. стр. 158–159), – правда, в итоге авангардист все-таки «уехал за границу, у него там оказались родственики» [Панова 1987, 341], что по состоянию на 1958 г. звучит не вполне безобидно.
325
Риторика Шевцова задала тон высказываниям специалистов по Сергееву-Ценскому относительно данного эпизода в романе – вплоть до вполне недавних: так, Т.А. Гавриленко полагает, что «говорящее о чем-то только Хаджи и только ему приносящее удовлетворение странное словотворчество вообще понять невозможно – никому и никогда» [Гавриленко 1995, 71]. Но об оригинальном авторе присвоенного Сергеевым-Ценским текста Шевцов не знал или умалчивал, так что это обстоятельство его преемникам пришлось открывать заново. Честь этого открытия принадлежит П.И. Плукшу: в первом издании его книги о Сергееве-Ценском «поэма» Хаджи обсуждается еще без упоминания о Гнедове [Плукш 1968, 260–261], а ко второму он ознакомился со статьей Ефремина (см. стр. 167) и позаимствовал из нее фразу о Гнедове, который «читал свою “поэму” в богемном кабачке “Бродячая собака”» [Плукш 1975, 221], – дополнив ее не только дополнительными сведениями об эгофутуристическом контексте (не вполне достоверными, поскольку под «графическими “аэропланными поэмами” Константина Олимпова» явно имелись в виду «Железобетонные поэмы» Василия Каменского, а не вполне невинный и вовсе не графический сборник Олимпова «Аэропланные поэзы»), но и, вслед за Шевцовым, инвективами в адрес «современного буржуазного модернистского искусства» в лице конкретной поэзии и леттризма, в том числе и работавших с однословными и однобуквенными текстами Йена Хэмилтона Финлея и Арама Сарояна.
326
С.И. Кормилов [Кормилов 1991a, 74] насчитывает их 30 – видимо, исключая два текста, записанных «лесенкой» (куда исчез при подсчете еще один моностих – невозможно предположить).
327
Этот текст, вполне вероятно, Марков получил непосредственно от автора, с которым состоял в переписке [Марков 1998, 309–315].
328
Версия «Трактата об одностроке» в [Марков 1994] практически не отличается от текста [Марков 1963]: новых примеров автор не дал, ошибок и неточностей не исправил – впрочем, добавил пару новых: так, название, под которым была опубликована державинская эпитафия Суворову, корректно («На гробницу Суворова в Невском») воспроизведено в [Марков 1963, 257] и ошибочно («На гробницу Суворова») в [Марков 1994, 354]; вместо совершенно корректной ссылки на книгу моностихов Иона Пиллата «Poeme intr'un vers» [Марков 1963, 248] появилось указание на одноименный раздел в книге Пиллата «Poezii» (1965) [Марков 1994, 346] – между тем книга 1965 г. представляет собой изданное к 20-летию смерти поэта избранное, разделы которого воспроизводят прижизненные сборники.
329
Россика РГАЛИ. Обзор поступлений за 1991–2002 гг. // Отраслевой портал «Архивы России» (http://www.rusarchives.ru/federal/rgali/rossika.shtml)
330
Как всегда, часть заявлений Маркова не вполне корректна. Примыкание Брюсова к античной традиции основывается, вероятно, на фразе из интервью Брюсова Измайлову (см. прим. 177 на стр. 121), которая в контексте других заявлений Брюсова по поводу истоков и смысла моностиха «О закрой свои бледные ноги.» выглядит явной мистификацией. Какое влияние японской традиции можно увидеть в моностихе Самуила Вермеля – неясно, это замечание Маркова выглядит такой же аберрацией, как название «Танка», приписанное этому тексту М.Л. Гаспаровым (см. прим. 254 на стр. 155). Удивление по поводу отсутствия в русском стихе моностихов с фольклорными корнями также выглядит странно, если помнить о моностихе Сельвинского; правда, Марков не включает моностих Сельвинского в свою антологию, однако не знать он его не мог, поскольку ссылка на соответствующие страницы «Студии стиха» присутствует в тексте «Трактата» ([Марков 1963, 254]; в [Марков 1994] ссылка снята). Любопытно, что авангардную линию в развитии моностиха Марков не называет вовсе.
331
Здесь стоит отметить, что фрагментарное письмо уже начала, а тем более – середины XX века значительно отстоит по мотивациям и художественной идеологии от фрагмента в понимании романтиков начиная с Ф. Шлегеля, для которых «фрагмент выступает зародышем или проектом становящегося объективного целого; всякий фрагмент для иенцев (и, кажется, для них одних) – фрагмент будущего» [Дубин 2002, 252], тогда как «фрагмент у Чорана – как, впрочем, уже у Бодлера, а потом у Ницше или Беньямина, – соответствует отдельному мгновению, не соединимому для разорванного сознания ни с каким другим» [Дубин 2002, 253–254].
332
«Я почему-то рисовала тогда (в 1915 г. – Д.К.) на всех коробках и бумажках фантастических зверей с выменем. Один из них был увековечен на листе с надписью: “Что в вымени тебе моём?”» – писала Брик в своих воспоминаниях о Маяковском, опубликованных в 1934 г. [Брик 2003, 38]
333
Ср., напр., характерные уступительные интонации в самой общей характеристике Дельвига: «Не обладая ни гениальностью Пушкина, ни выдающимися дарованиями Батюшкова или Баратынского, он тем не менее оставил свой след и в истории русской поэзии, и в истории критики и издательского дела, а личность его была неотъемлема от литературной жизни 1820–1830-х гг.» [Вацуро 2004, 655]
334
Впрочем, в записных книжках Субботина, подготовленных им к печати позднее, имеется запись от 10 августа 1944 г.: «Окоп копаю. Может быть – могилу? Стихотворение, которое я, может быть, никогда и не напишу. Но, может быть, и не надо ничего дописывать» [Баймухаметов 2013, 2].
335
Иначе полагает О.И. Федотов, отмечающий в этом тексте «изысканную аллитерацию (кп – кп, мт – тм)» [Федотов 2002, 21]. Вряд ли для такого прочтения есть основания: странно интерпретировать как аллитерацию контактный повтор однокоренных слов («окоп копаю»), а услышать перекличку «м» и «т», разнесенных по противоположным концам слова «может», с «т» и «м», расположенными контактно, но в разных словах («быть могилу»), не так-то легко, особенно если не забывать, что первое «т» твердое, а второе мягкое. Вообще представляется, что и тема субботинского стихотворения – каждодневное пребывание солдата в ожидании смерти – не требует добавочных ритмико-эвфонических эффектов, и сама однострочная форма избрана именно как жест отказа от любых дополнительных украшений начиная с рифмы. Впрочем, замечание Федотова, по-видимому, представляет собой отголосок разбора субботинского моностиха, проведенного тридцатью годами раньше Е.К. Озмителем (см. стр. 40–41), чьи небесспорные замечания о звуковой конструкции этого текста сделаны, однако, в рамках более широкого и пристального взгляда на его структуру.
336
При том, что Солнцев в середине 1960-х гг. отчетливо ориентируется на Сельвинского, шлет ему стихи и восторженные письма, получает ответы и советы и отзывается с наивозможным преклонением: «Ваши письма для меня, язычника, – откровения громадного философского и поэтического ума, перед которым я преклоняюсь, но – как мальчишка, впервые попавший в ядерную лабораторию, в напряженное молчание приборов – стараюсь на себе экспериментировать: убьет молния или не убьет. ‹…› Вы – единственный в своем роде поэт» (3.06.1963; РГАЛИ ф. 1160 оп. 1 ед. 460 л.6). Иными словами, авангардная ориентация Солнцева налицо: «Я люблю только непохожих, единственных: Маяковского, Лорку, Сельвинского, Элюара, Эренбурга, Вознесенского» (там же, л.1), но диапазон авангардных возможностей исчерпывается для него открытыми советскими публикациями новейшего времени и потому остается весьма ограниченным.
337
Этот текст вскользь упоминает С.И. Кормилов, перечисляя авторов середины XX века, которые, обращаясь к моностиху, использовали силлабо-тоническую метрику, – и характеризует его как бесцезурный шестистопный ямб [Кормилов 1996, 148]; теоретически эта строка действительно укладывается в шестистопный ямб – форма XXIV с безударными вторым, четвертым и пятым иктами учтена К.Ф. Тарановским 2 раза в статистике 29805 строк соответствующего размера [Тарановский 2010, 134–136], – однако опознание ее как ямбической в изолированном положении кажется более чем проблематичным.
338
Псевдоним, использовавшийся Алексеем Хвостенко и Анри Волохонским для совместно написанных произведений. Фактические сведения о литературной группе «Хеленукты» см., напр., [СЛ 2003, 461–462].
339
Имеются в виду участники московской поэтической группы «СМОГ».
340
Речь, разумеется, идет о книге «Студия стиха» (1962), а не о ранней (1928) поэме Сельвинского с таким названием.
341
Имеется в виду книга французского поэта Рене Шара (1907–1988) «Листки Гипноса» (1943–44), сокращенный русский перевод которой появился в 1973 г. Текст книги состоит из множества фрагментов, бóльшая часть которых, безусловно, прозаична, однако некоторые с различной долей вероятности интерпретируются как стихотворные. Во всяком случае, то, что «Листки Гипноса» не являются полностью прозаическим текстом, не вызывало сомнений у исследователей: «Применительно к “Листкам Гипноса” затруднительно с полным основанием говорить о стихе, разве что, может быть, о тексте “Карта вечера…” и нескольких еще строчках двуликого рода (de nature “amphibie”). И тем не менее, безусловно, “Листки Гипноса” представляют собой книгу стихов» [Sereni 1971, 46]. К сходной позиции, видимо, склонялись и русские переводчики. В то же время мера самостоятельности отдельных фрагментов представляется неочевидной; характерно, например, что переводивший «Листки Гипноса» Вадим Козовой существенно усиливал стихотворность в одних фрагментах и ослаблял в других, стремясь сохранить некий баланс стихового и прозаического начал во всей книге. Однострочные фрагменты из издания 1973 г. в переводе Козового мало напоминают спровоцированные ими тексты Эрля:
[ИСФП 1973, 320, 326]
– несколько ближе к ним опубликованные позднее другие фрагменты в переводе Мориса Ваксмахера – например:
[СЕП 1976, 132]
342
О такой компенсаторной функции алфавитного упорядочивания текстов пишет Е.В. Клюев на совершенно ином материале (поэзия Эдварда Лира): «Естественно, что для поэзии абсурда алфавит – идеальная форма. Строгий и заранее известный читателям ‹…› порядок следования равновеликих частей небольшого объема – что еще нужно? Эту форму можно “набивать” чем угодно: она выдержит и переживет любое безумие, оказывая достойное сопротивление какому угодно хаосу! К тому же, не надо думать о том, чтобы связывать части: части связаны изначально (и не нами)» [Клюев 2000, 58].
343
Ср. из советского учебника той же эпохи: «Ленинград – это город рабочих» [Хмара 1980, 114].
344
Ср.: «Сквозь прежний “традиционный”, “многозначительный” стиль проступают чертежные контуры “прямоты и ясности”, доходящей до профанирующей элементарности, заострились и стали более конструктивными черты эпатажа, присущего некоторым стихотворениям Аронзона и ранее. К произведениям “нового типа” следует отнести ‹…› однострочия» [Степанов 2010, 18].
345
Ср.: «Переживанию точности однозначного соответствия между словом и его денотатом, отвечающему эстетике ясного, “дневного” смысла, противостоит вариативность, а то и “расплывчатость” значения этого слова при изображении предметов скрытых, “ночных”. Аронзон исходит в своем творчестве из явственного ощущения существования таких предметов, и именно это ощущение приобретает для него устойчивую инвариантность, тогда как всякое выражение неизбежно представляется приблизительным, обходящим свой предмет по одной из неисчислимо многих касательных» [Степанов 2010, 42–43]. О том, что указательное местоимение, указывающее неизвестно на что, в поэтическом тексте способно, с одной стороны, акцентировать метатекстуальный уровень текста, а с другой – представлять указанное как нечто особо ценное и эмоционально нагруженное, см. [Зубова 2012].
346
Комментаторы собрания сочинений Аронзона (П.А. Казарновский, И.С. Кукуй и В.И. Эрль) полагают, что «имеется в виду народная примета – выйти на первый выпавший снег и загадать желание» [Аронзон 2006, I:478]; думается, что такая конкретизация совершенно необязательна: экстатическое отношение к природе вообще и к любому неповторимому мгновению ее существования – постоянный мотив поздней лирики Аронзона: «Боже мой, как все красиво! / Всякий раз, как никогда» [Аронзон 2006, I:213] и т. п.
347
Комментаторы собрания сочинений, впрочем, не уверены в том, что эта строка представляет собой моностих, а не просто набросок [Аронзон 2006, I:461].
348
Примеры этого рода принципиальны в теоретическом отношении, опровергая взгляд на моностих и вообще миниатюру как цельный квант смысла, свободный от диалектической напряженности между частями и целым (ср., например, у А.Д. Степанова: «Проблема вхождения в герменевтический круг здесь минимизируется: конечно, нельзя сказать, что это целое без частей, но челночное движение от целого к части и обратно здесь бессмысленно в очень своеобразном значении этого слова – потому что не приводит к корректировке авторского смысла» [Степанов 2008, без паг.]). О длине строки как иконическом изображении временнóго промежутка см., напр., [Nänny 1985, 130].
349
Цикл «Командировка» впервые напечатан в [Сапгир 2004] в сокращении, и этот моностих в состав публикации не вошел, так что единственной его публикацией осталась сетевая [Сапгир 1997].
350
Впрочем, в данном случае перед нами не просто паронимия: столкновение старинной кальки «впечатление» с формой глагола «впечатать» актуализирует в существительном его внутреннюю форму.
351
При том, что знакомство Сапгира с вышедшей двумя годами раньше книгой Сельвинского «Студия стиха», в которой моностих представлен как вполне законная поэтическая форма, представляется весьма вероятным, учитывая его (и Игоря Холина) интенсивное общение с самим Сельвинским (см. [Кулаков 1999, 329]).
352
Как пояснил нам в свое время работавший с архивом Сатуновского И.А. Ахметьев, графика этого текста в [Сатуновский 1994, 261] воспроизводит машинописный оригинал Сатуновского:
(вторая строка выровнена по правому краю). Позднее Сатуновский возвращается к этому стиху и начинает с него многострочный текст – не отказываясь, однако, и от уже записанного моностиха (т. е. в «основной корпус» своих стихотворений – см. [Кулаков 1999, 234] – автор включил оба текста); в машинописи этого многострочного стихотворения графика первого стиха такая же, с разрывом слова «октябрь», – и это дает основания предположить, что разбивка на две строки вынуждена здесь исключительно длиной стиха. В [Сатуновский 1994, 261, 262], однако, в первом случае (отдельное стихотворение) воспроизводится графика подлинника, во втором (в начале многострочного текста) – этот же стих дан единой строкой. Нам представляется, что составитель издания В. Казак здесь непоследователен, и было бы логично считать данный текст строго однострочным, без «лесенки». Тем не менее, при переиздании сочинений Сатуновского сам Ахметьев пошел по обратному пути и воспроизвел в обоих случаях разбивку машинописного оригинала [Сатуновский 2012, 374, 375]. Учитывая, что внутрисловный перенос во всем корпусе стихотворений Сатуновского (более 1000 текстов) встречается трижды и всякий раз отчетливо мотивирован: «Владимир Ильич Ле– / йбсон» [Сатуновский 2012, 322], «в жалобную кни– / гу, гу, ни гу-гу» [Сатуновский 2012, 256] и хрестоматийное «Вчера, опаздывая на работу, / я встретил женщину, ползавшую по льду, / и поднял ее, а потом подумал: – Ду– / рак, а вдруг она враг народа?» [Сатуновский 2012, 9], – кажется, что видеть этот прием в рассечении слова «октябрь» по слогам нет оснований.
353
Сатуновский, в частности, начинал еще на рубеже 1920–30-х гг., примыкая к «констромолу» – «конструктивистскому молодняку» – авторам младшего поколения, группировавшимся вокруг Литературного центра конструктивистов во главе с Ильей Сельвинским. В связи с этим вполне возможно, что интерес Сельвинского к моностиху не прошел мимо его внимания: во всяком случае, в одном из стихотворений Сатуновского фигурирует, хоть и в ироническом контексте, «Илья Сельвинский, мастер миниатюры» [Сатуновский 2012, 381].
354
Важно, что глагол «знать» – в отличие, например, от близких по значению «считать», «полагать» или напрашивающихся в данном случае «верить», «утверждать» – принадлежит к «фактивным глаголам», которые «характеризуются пресуппозицией истинности суждения, выражаемого подчиненной предикацией» [Падучева 1990], – и, таким образом, истинность утверждения «Это стихи» имплицитно встроена в данный текст.
355
Ср. также у Г.Н. Айги: «Это слова-пароли, слова-шифры, – такими “словоподобиями”, как бы ничего не значащими, обмениваются, например, две “недотыкомки” где-нибудь на бесчеловечно-бесприютном вокзале. ‹…› У Всеволода Некрасова есть своя мистика. ‹…› Абсурдность бесчеловечности, выраженная в его поэзии, такова, что для обычного, “нормального” ума она начинает казаться чуть ли не “потусторонней”…» [Айги 2001, 141].
356
Относительно ясности данного текста Никоновой выражает некоторые сомнения И.И. Плеханова, приходящая, на основании беглого экскурса в историю образа мухи в русской поэзии, к выводу о том, что Никонова этим текстом «изъяла из сферы своих интересов и насекомое, и всю экзистенциальную проблематику вместе с ним. Кроме экзистенции творчества» [Плеханова 2007, 271–273]. Сама Никонова в другом месте комментировала иначе: «Путь простоты в своем движении ведет к упрощению не единицы энергии – буквы, а к упрощению единицы интеллекта – мысли. Стихи типа: МУХ НЕТ, СПИНА МЕРЗНЕТ, ЗУБ УШЕЛ – это продолжение абсурдизма наоборот, это своего рода гиперреализм, простой и чистый пепел бытовой речи» (манифест «О сокращении плоскости стиха» в самиздатском журнале «Транспонанс», 1979, № 1, стр. 16); мы уже отмечали (см. стр. 142–143), что примерно эта логика – взрывной потенциал бытовой речи на фоне авангардного письма – вероятно, стоит за Поэмой 12 в «Смерти искусству!» Василиска Гнедова.
357
Осведомленность относительно не републиковавшихся и не обсуждавшихся в советской подцензурной печати футуристических текстов приходила к ним постепенно, вплоть до личной переписки Сергея Сигея с Гнедовым в 1977–1978 гг. [Brooks 2006, 179–182] после того, как в 1976 г. Сигей получил возможность целиком ознакомиться со «Смертью искусству!» [Brooks 2006, 186]. Однако уже в 1985 г. Б.В. Останин и А.В. Кобак, квалифицируя творчество Сигея и Никоновой как «ретро-футуризм», пеняли им на то, что в их работах «бросается в глаза не столько собственная оригинальность и изобретательность, сколько осведомленность об идеях авангарда 1910–1930-х годов» [Останин, Кобак 2003, 94–95].
358
Второй из этих приемов – расчленение двух слов и «вдвигание» их друг в друга – Никонова выделяет особо, называя его «чехардой» [Бирюков 1994, 75]. Проблематизацией линейности чтения эта «чехарда» сближается также с одновременными работами Всеволода Некрасова – при том, что авангардный никоновский пафос авторского воления над словом (анатомический оксюморон «кисти пяток» и финальный пуант «тут ТОК» не обнаружены в соединении ничем не связанных слов «институт» и «кипяток», а высечены из их столкновения) Некрасову, конечно, чужд.
359
Ср., однако, использование того же приема канадским поэтом Джорджем Суидом:
[Swede 1981, 36]
– с акцентом на спорадическое появление новых значимых слов в результате пересегментации (особенно выразительно в первом тексте выделение ace «малая частица» из space «пространство»). Англоязычные примеры этого рода довольно многочисленны, чему способствует обилие в языке коротких слов, – Б. Граммен выделяет их в особый подтип поэтического минимализма, fissional poetry, «расщепительную поэзию» [Grumman 1997]; кажется, что они обнаруживают поспешность обобщающего замечания Н.А. Фатеевой, полагающей, что «в основе пересегментации лежат две тенденции – лексикализация аффиксов и реэтимологизация корневых элементов» [Фатеева 2006b, 869], но, возможно, дело в большей доле морфологически нерасчлененной лексики в английском языке.
360
Согласно классификации видов зауми, предложенной в [Janecek 1986]; краткий обзор см. [Janecek 1996a, 4–5].
361
Свидетельством того, что эта форма входит в состав звукового образа украинского языка у носителей русского, может служить эпизод из романа Ивана Тургенева «Рудин», в котором один из персонажей пародирует украинскую речь словами «грае, грае воропае».
362
При том, что полный отказ от такой интерпретации, прокламируемый, например, И.М. Сахно («Любая расшифровка <заумной поэзии> является фактом субъективной интерпретации, лишенной научного обоснования» [Сахно 1999, 22]), производит впечатление избыточного исследовательского аскетизма.
363
В этой публикации оба текста даны прописными буквами, что, как сообщил нам автор, не соответствует оригиналу.
364
Паронимическая пара «день – дань» встречается в стихотворении Хлебникова «А я / Из вздохов дань…» (1918). Впрочем, именно этот тип паронимии, связанный с чередованием ударных гласных, обильно представлен в фольклоре, ренессансной литературе, детской и песенной поэзии, в связи с чем нередко попадает в последнее время в поле зрения исследователей (см. [Корчагин 2011, 107–108]), так что видеть здесь хлебниковский след необязательно.
365
Опубликовав еще несколько книг в 1980-е гг., Лакоба отошел от поэзии и сделал заметную политическую карьеру, венцом которой стал пост секретаря Совета безопасности непризнанной Республики Абхазия.
366
Понятно, что автору из субполя официальной литературы не пришло бы в голову предложить в «Новый мир» тексты такого рода, а автору из субполя неподцензурной литературы к 1970 году уже не пришло бы в голову предлагать в «Новый мир» что бы то ни было: этот жест сигнализировал о выключенности автора из обоих. В дальнейшем Прийма опубликовал в периодике несколько подборок, отчетливо подражательных по отношению к Андрею Вознесенскому, а затем оставил поэзию и в настоящее время является преуспевающим автором многочисленных книг о своих контактах с НЛО и прилетевшими на них инопланетянами [Прийма 2010].
367
Постановка вопроса, отсылающая к тыняновскому тезису о выделенности каждого слова в стихе.
368
Л. Робель, замечая, что у Айги «бóльшая часть ключевых образов соотносится с основными мифами очень древней чувашской мифологии», рассказывает со слов самого Айги, что «ребенком ему случилось проснуться ночью и услышать, как мать его усердно шепчет заклинание, в котором без конца повторялось слово, по-чувашски означающее “поле”… Слово “поле” было символом свободы, независимости, счастья» [Робель 2003, 49–50].
369
Правомерность и термина, и предложенных Эпштейном (напр., в [Эпштейн 1988, 139–176]) границ явления и способов его описания многократно оспаривалась; ср. их осторожную ревизию в [Аристов 1997] и попытки альтернативной концептуализации в [Кукулин 2003] и [Липовецкий 2000].
370
С иной расстановкой акцентов трактует «Осень» Жданова И.И. Плеханова, видя в названии текста возможность перевести со/противопоставление двух реальностей и во временной план: «Длящееся будущее (тень падает) и настоящее (падают листья, увлекаемые тенью) составляют параллельное и взаимосвязанное движение. Их встреча-пересечение в пространстве видится как скрещение плоскостей: тень “падает” благодаря ожившей языковой метафоре, на деле она лежит по горизонтали, листья буквально падают по вертикали или, сносимые ветром, по диагонали прямого угла “ствол – тень”. “Увлекаемые” тенью, они все равно ее не накроют, она так и будет “падать” сверху – как материализованное в ней будущее» [Плеханова 2007, 355–356]. Ср. также замечания О.И. Северской об особой значимости для Жданова семантического поля «тень», устойчиво связанного с представлением о пространстве текста как отражении/тени реальности [Северская 2007, 83, 91].
371
Ср. соображения И.В. Кукулина о переоткрытии Лаптевым культурной проблематики метареалистов [Кукулин 2003, 391].
372
По сообщению работавшего с архивом Лаптева А.Н. Урицкого, стихотворение «На заданье пошел с половиной Блока…» несет авторскую датировку июнем 1993 года. Тем не менее один из опубликованных в 1991 г. моностихов, вошедших в его состав, Лаптев включил и в книгу 1994 года.
373
В советских условиях в этом нельзя было сознаваться, и в статьях идеологов верлибра упор делался на то, что «эта традиция идет из глубины веков. От эпохи досиллабических виршей. И когда будет составлена антология русского классического свободного стиха, в ней мы увидим таких поэтов, как А. Сумароков, А. Радищев, А. Фет, Ф. Сологуб» и т. д. [Бурич 1989, 168] Однако в записных книжках Бурича, опубликованных посмертно, встречаются характерные проговорки, проясняющие точку отсчета: «Неправомерное господствующее положение рифмованного стиха по сравнению с безрифменными системами как следствие изоляционистской политики времени культа личности»; «Мы отстали на целую стихотворную систему, более точно отражающую психологию современного человека» [Бурич 1995, 234, 254]. Ср. также: «В середине 60-х годов <в судьбе русского верлибра> намечаются новые сдвиги, связанные с появлением в литературе ‹…› ряда поэтов, для которых верлибр – одна из основных форм работы со словом. Характерным для них был большой опыт переводческой деятельности, что, безусловно, наложило печать на их оригинальное творчество» [Джангиров 1991, 8]. Излишне говорить, что стремление обогатить отечественную традицию плодотворным опытом других национальных поэзий – вполне правомерная творческая стратегия, успехам которой русский стих многим обязан, однако понимание этого опыта не как расширения спектра возможностей, а как универсального образца может быть оправдано лишь как источник «энергии заблуждения».
374
Другое посмертное издание, текстологическая непроработанность которого вызывает сожаления с точки зрения истории моностиха, – это первая и единственная посмертная книга стихов Мэльда Тотева (1937–1993), включающая в себя и несколько моностихов:
МЕТЕОР
[Тотев 1999, 197, 128, 104]
– и многочастный текст «Фрагменты вчерашнего дня» [Тотев 1999, 195–196], состоящий из 15 разделенных одиночными звездочками элементов объемом от 1 до 3 стихов, которые складываются в довольно цельную картину городской панорамы, выдержанной в экспрессионистских тонах, а также несколько композиций не вполне ясного уровня спаянности, включающих однострочные элементы. Помета к одному из разделов книги: «Автор хотел поэтическими средствами создать стройную картину мира, включив в поэму большую часть своих стихотворений» [Тотев 1999, 107], – подсказывает, что Тотев, как и Лаптев, был склонен скорее к апостериорному объединению фрагментов в единства следующего уровня, но как далеко зашел бы этот процесс в случае участия автора в итоговом издании, сказать трудно. Приходится пожалеть и о недатированности текстов: однострочные стихотворения Тотева довольно разнородны, как видно уже по трем процитированным, и было бы интересно выяснить, когда они написаны и на какие претексты автор имел возможность ориентироваться.
375
В следующей публикации этот текст дан в два стиха:
[Белый квадрат 1992, 100]
– в ряду нескольких двустрочных текстов аналогичной структуры (первый стих – субъект/подлежащее, второй стих – предикат/распространенное именное сказуемое). Возможно, что и здесь, как в случае Леонида Виноградова, мы сталкиваемся с неустойчивостью авторского графического решения.
376
Ср. собственную рефлексию Владимира Вишневского по этому поводу: «О, это немноготочие в финале – сколь многое оно способно вобрать…» [Я одностишьем… 1992]
377
По крайней мере один из них, по-видимому, результат недоразумения:
[Вишневский 1991, 6]
– похоже, что автор ошибся в счете слогов, приходящихся на долю аббревиатуры «СССР»: если убавить один слог, то выйдет типичный для Вишневского пятистопный ямб (с пропуском ударения на первом икте). В разговорной речи такое произношение широко представлено и фиксируется журналистикой как характеристика людей с низким уровнем речевой культуры – в зависимости от симпатий журналиста такими людьми оказываются либо участники коммунистического митинга: «“Наша Родина – ССР!” (это не ошибка, это они так кричат – эс-эс-эр)» [Пушкарь 2001], – либо, напротив, журналисты «либеральной» телекомпании: «ЭС-ЭС-ЭР (это у них СССР)» [Айдарова 1999].
378
Ср.: «Одностишия наподобие “А свой мобильник я забыл в метро” Вишневского очень наглядно показывают характер героя таких текстов: воспаленное самомнение вкупе с обидой на жестокий мир» [Верницкий, Циплаков 2005, 155].
379
Ср., однако, попытку «реабилитации» лирического субъекта Вишневского, предпринятую В.А. Миловидовым, с привлечением «перформативного аспекта дискурса (дикция, манера произнесения текста, внешний вид автора, авторские ремарки, сопровождающие и обрамляющие перформанс и т. д., а также характеристики аудитории)»: учет этих факторов, по мнению Миловидова, позволяет (имплицитному читателю?) извлечь из моностиха
предположение о том, что «легкомыслие его – только маска, надев которую, он пытается – и успешно – уберечь последнюю из оставшихся в этом мире ценностей (рождение ребенка, – Д.К.) от конечной девальвации» [Миловидов 2000, 74].
380
Ср. также беглое замечание А.К. Жолковского о поэтике Вишневского как сказовой [Жолковский 2011, 457].
381
«Для массовой литературы нуж<но> ‹…› отчетливое членение на жанры. ‹…› Жанры четко разграничены, и их не так много. ‹…› Каждый жанр является замкнутым в себе миром со своими языковыми законами, которые ни в коем случае нельзя переступать… Пользуясь терминами семиотики, можно сказать, что жанры массовой культуры должны обладать жестким синтаксисом – внутренней структурой, но при этом могут быть бедны семантически, в них может отсутствовать глубокий смысл» [Руднев 1999, 158].
382
Вот вполне показательный отзыв: «Его фирменное блюдо, принесшее ему всеобщую любовь и известность, – одностишия. Одностишия Вишневского цитируют, уже не вспоминая об авторе, они давно растворились в городском фольклоре, стали частью народной разговорной культуры» [Кучерская 2003].
383
Впрочем, Марина Цветаева в 1940 году отмечала в своей записной книжке, в связи с одной строкой Шарля Бодлера: «Сила японских однострочий, дальше писать нечего, ибо все дано» (запись от 4.12.1940) [Лубенникова 2010]. Любопытно, однако, что Иван Игнатьев уже в 1913 году, в манифесте «Эго-футуризм», усматривал в однострочных «поэмах» из книги Василиска Гнедова «Смерть искусству!» «электризованный, продолженный импрессионизм, особенно характерный для японской поэзии» [ЗА 1993, 93] – никак не заявляя, впрочем, корреляции этого метода с однострочной формой.
384
Местность, надо заметить, остается японской – и это не случайно: «Знаменитые местности в японской поэзии играли роль, близкую к сезонным словам: за каждой из них издавна стоял ряд ассоциаций. ‹…› Ёсино, Мацусима, Сиракава – давали поэтам прямой доступ к общему телу национальной поэзии. ‹…› В Америке, можно считать, не существует таких мест, за которыми закреплен устойчивый круг поэтических ассоциаций. А потому англоязычное хайку, если хочет быть жизнеспособным, должно опираться на другие измерения японской традиции» [Сиране 2002, 88–91]. В России, разумеется, дело обстоит так же, как в Америке.
385
Характерно в этом отношении, что в самом знаменитом хайку родоначальника этого жанра Мацуо Басё, известном по-русски в переводе Веры Марковой:
– как раз слово «тишина» в японском оригинале отсутствует, оно добавлено переводчиком [Кудря 1999, 76–77].
386
При строгом подходе (по Г.Л. Пермякову), возможно, не все эти речения могли бы претендовать на пословичный статус (так, Пермяков настаивает на обязательности метафорического переноса значения для всех элементов пословицы [Пермяков 1988, 46], что для входящих в состав речения имен собственных невозможно). Однако в данном случае распределение имитирующих фольклор текстов по жанровым прототипам не имеет принципиального значения: важнее само воспроизведение в текстах характерных элементов малой фольклорной формы: от фигуры противопоставления до внутренней рифмы и подбора личных имен по аллитерационному принципу (ср. еще у В.И. Даля: «Ко внешней одежде пословиц надо отнести и личные имена. Они большею частию взяты наудачу, либо для рифмы, созвучия, меры» [Даль 1994, 14]).
387
Вплоть до имитации – вполне возможно, что сознательной, – характерных особенностей поэтики некоторых других авторов, постоянно работающих с моностихом: так, текст Нирмала
[Нирмал 2003, 27]
– единственный из 575 текстов его книги, в котором содержатся знаки препинания, – заметно близок к текстам Валентина Загорянского и в пунктуационно-интонационном аспекте (ср. стр. 341), и по содержанию (ср. стр. 258). См. подробнее [Кузьмин 2003b, 146–147].
388
Контекст мог бы актуализировать в слове «сахарный» сему белизны – но этого не позволяет однородность с определением «яичный», удерживающая и во втором прилагательном его относительный (а не качественный) статус.
389
По всей видимости метящим в культового поэта ленинградского самиздата Аркадия Драгомощенко, хотя собственно в текстах Александроченко на это ничто не указывает. Возможно увидеть в том, что игровой текст создается преимущественно авторами, представляющими свои тексты под псевдонимом, приближающимся к литературной маске, нечто большее, чем совпадение: из авторов, работающих с моностихом, к Бонифацию и Ананию Александроченко следует добавить в этом отношении еще поэта из города Тольятти, публикующегося под псевдонимом Айвенго (Андрей Стеценко; род. 1971):
[Вчера, сегодня, завтра 1997, 20]
– за текстами подобного рода стоит идеология литературы как источника самоценного удовольствия для автора и читателя, логически ведущая к нежеланию отождествлять те или иные тексты с определенной человеческой личностью.
390
Эта форма близка к предсказанному В.Ф. Маркову жанру «голых рифм», для которого он, однако, предлагал двустрочную запись [Марков 1994, 350], – в двустрочном варианте идея была реализована Германом Лукомниковым в книге [Бонифаций 1997].
391
Аграмматическая форма «звездей», впрочем, широко распространена в просторечии: поисковая система «Яндекс» давала в 2008 году порядка 14 000 словоупотреблений в Интернете, затем это количество многократно возросло после выхода в свет в 2009 году бульварного романа «Про людей и звездей».
392
Несмотря на обоснованные возражения Н.А. Янко-Триницкой [Янко-Триницкая 1975].
393
Особенно характерно для мельниковских окказионализмов сочетание наложения с апокопой (конечным усечением одного из исходных слов). См. подробнейшую классификацию в [Изотов 1998].
394
Выразительный пример: «Недавно я, старый рыбак Наталья Хозяинова, издалека увидела рыбака Леонида Либкинда. Он писал одностишия! Яркие, остроумные, свежие… Близкое знакомство с творчеством Леонида восхитило меня. ‹…› Непростой это жанр – одностишие. Он предполагает не только поэтическую форму, но и наличие в ней оригинальной мысли» etc. [Хозяинова 2015, 3].
395
Этот текст и несколько аналогичных включены в наиболее представительное издание собственных сочинений Владимира Вишневского как лучшие тексты конкурсов одностиший, проведенных в начале 1990-х гг.
396
Впрочем, эта ошибка уже приближается к тому типу встречающихся в массовой и наивной литературе авторских просчетов, благодаря которым преодолевается присущая такой литературе «тотальная стертость речевых конструкций» и «“нетрансформированное слово” парадоксальным образом “остраняется”» [Добренко 1999, 355], прочитываясь помимо воли и намерений автора как полноценное художественное высказывание.
397
Любопытна в особенности судьба одного моностиха Вишневского, впервые появившегося еще в [Вишневский 1988, 23]:
В дальнейшем этот текст дважды ([Вишневский 1991, 5; 1992, 18]) публиковался в виде
Затем автор внес в него более решительную правку:
[Вишневский 1998, 79]
Однако элемент визуализации текста и нелинейности чтения показался, вероятно, Вишневскому слишком радикальным, и в итоговом (на данный момент) варианте читаем:
[Вишневский 2001, 42]
– произошло, таким образом, возвращение к пушкинскому первоисточнику.
398
Подробный обзор применяемых Элюаром и Пере приемов трансформации исходных текстов – не столько пословиц как таковых, сколько фразеологических оборотов, библейских цитат и пр. – см., напр., в [Mingelgrün 1981]. Русскому читателю эта ранняя книга Элюара и посейчас, не говоря уже о временах Нельдихена и Маркова, известна мало, и даже один из наиболее подробных обзоров сюрреалистической литературы – поверхностная и сильно идеологизированная монография Л.Г. Андреева – ограничивается тем, что определяет ее как «какие-нибудь шокирующие нелепости» [Андреев 2004, 263].
399
Статус этого текста, как и приводимого далее другого моностиха Михаила Безродного, проблематичен, поскольку они опубликованы в составе сложного прозиметрического целого: книга Безродного «Конец цитаты» состоит из элементов различного объема и жанра (от моностиха до небольшого филологического эссе), и правомочность выделения из его состава тех или иных частей может быть оспорена. Во всяком случае, эти тексты, как и соседствующие с ними многострочные стихотворения, входят в книгу Безродного как отдельные самостоятельные фрагменты, и проявлений их деформации контекстом целого нам ни с просодической стороны, ни с содержательной увидеть не удалось.
400
В.М. Мокиенко и Х. Вальтер, составившие обширную коллекцию новых паремий и паремиеобразных конструкций на разговорно-публицистическом материале, также отмечают обилие «трансформ, основанных на чистом (и при этом обычно случайном) фонетическом и эвфемистическом созвучии» [Вальтер, Мокиенко 2010, 13] – оговорку в скобках следует отнести на счет не вполне академического жанра выступления ученых: среди приводимых ими примеров (Не йоги горшки обжигают; Машу пальцем не испортишь; Птицу видно по помёту; Я милого узнаю по колготкам; Что посеешь, то и пожмёшь; Язык до киллера доведет) в части случаев паронимическое сближение актуализирует вполне определенные смыслы (скажем, замена полета на помет явным образом выражает мысль о том, что сущность человека познается не в лучших, а в худших его проявлениях), а что до других случаев (особенно загадочных колготок), то надо помнить, что Мокиенко и Вальтер имеют дело не с целостными текстами, как мы, а с фрагментами, особенности которых могли быть мотивированы конситуацией или контекстом. Глубже смотрит Е. Фарыно, отмечающий, что сам феномен стихотворного ритма ведет «к произвольным, чисто формальным трансформациям и эквиваленциям. Но информационно существенными являются только те, которые высвобождают родственную семантику между трансформируемым и получаемыми трансформами» [Фарино 2004, 457].
401
Любопытно, что автор слегка изменил глагол (у Пушкина «заметил») – вероятно, уходя от стыка двух свистящих и, тем самым, намекая на огрех в классическом тексте.
402
Судя по всему, это вымысел, впервые встречающийся в советской пропагандистской книге «Героическая Испания» (1936) и основанный на подлинной фразе «На всем полуострове совершенное спокойствие» из радиообращения республиканского правительства в ответ на первые сообщения о мятеже. Характерно, что живущий именно в Испании М.С. Евзлин, обсуждая этот моностих Сигея, упускает интертекстуальный аспект и пишет о том, что «здесь возникает довольно длинный ряд ассоциаций: быль, былина, былье, былинка, но также – бытие-небытие» [Евзлин 2008, 70].
403
Характерно, в частности, что публикация [Ковальчук 1994], откуда взяты два приведенных примера, целиком состоит из текстов этого рода и озаглавлена намекающим на жанровую природу текстов словом «Переделки».
404
Типографическое решение 16-й полосы «Литературной газеты» в этот период предусматривало разное шрифтовое решение для стихотворного и прозаического текста; к тому же данный текст не уместился по ширине столбца и был перенесен во вторую строку по прозаическому типу записи. Таким образом, в условиях этой конкретной публикации не складывается читательская установка на обнаружение в тексте сигнала стихотворности.
405
Впрочем, произносит эту фразу еще и один из персонажей кинофильма «Раз на раз не приходится» (1987, сценарий Валентина Ежова и Альберта Иванова) [Кожевников 2001, 84].
406
Можно было бы думать, далее, вслед за размышлениями Е.А. Тоддеса о том, как ключевому для Тютчева концепту «хаос» соответствует у Мандельштама концепт «пустота» [Тоддес 1974, 79], над тем, что замена мандельштамовского «перепуталось» на «пезданулося» произведена Шишом Брянским именно в этом направлении. Другая возможная отправная точка для сопоставлений – мандельштамовский мотив молчания, в разных отношениях полемический относительно Тютчева [Тарановский 1972]. Непосредственное соотнесение стихотворения «Декабрист» с тютчевским претекстом производилось Ст. Бройдом [Broyde 1975, 42–43] в направлении историософских концепций двух поэтов и в анализе текста Шиша Брянского нам не помогает.
407
В фильме «Место встречи изменить нельзя» (сценарий бр. Вайнеров) приписан Конфуцию, однако найти такое высказывание в сочинениях Конфуция трудно, потому что его там нет [Переломов 1998, 284].
408
Квадратные скобки в названиях – элемент авторской графики; см. подробнее [Кузьмин 2002, 308].
409
Никогда, впрочем, не полном: не согласимся с А.Д. Степановым, замечающим по поводу минимальных текстов Нилина, что «мы не знаем, кто, где, когда и почему» в них говорит [Степанов 2008, без паг.]. Редукция одних элементов конситуации обнажает определенность других – у Нилина, как правило, гипостазируется принадлежность речевого фрагмента определенной эпохе, позднесоветской бытовой речи. В частности, приводимый Степановым в качестве примера моностих
– с наибольшей вероятностью отсылает к характерному для этой речи употреблению глагола «брать» в значении «покупать» (хотя и сворачивание синтагмы «брать взятки» – импликацию фразеологизма, в терминологии В.М. Мокиенко, – исключить нельзя).
410
Впрочем, в текстах Людмилы Петрушевской нам такого выражения отыскать не удалось, хотя общее количество персонажей этого автора, которые подавились тем или иным продуктом – блином, пирожком, кефиром, червяком и т. д., – неожиданно велико. Может быть, это Нилин и имел в виду?
411
Семантический ореол именно этой разновидности размера – с женским окончанием, – кажется, специально не исследован. Вскользь отмечались, например, обращение к ней Михаила Лермонтова в балладах, «основанных в общем на плавной, неторопливой и уравновешенной интонации песенно-мелодического типа» [Шувалов 1941, 272], и различно проявляющаяся в четырехстопном амфибрахии тематическая линия чуда в романтически ориентированной поэзии XIX–XX вв. [Гаспаров 1999, 278]. В силу того, что исследование семантического ореола требует, как правило, учета разновидностей размера и даже строфики (см., напр., [Лилли 1997, 93–94]), обращение к вопросам семантического ореола при изучении моностиха в высокой степени проблематично.
412
В принципе возможна и третья трактовка, при которой текст прочитывается как распространенное предложение: сказуемое – категория состояния, подлежащее – инфинитив, дополнение – субстанивированное указательное местоимение. Однако такая инверсия потребовала бы, скорей всего, пунктуационного подспорья в виде тире после первого слова.
413
Разложение фразеологизма встречается и в ряде других современных моностихов:
Владимир Вишневский
[Вишневский 1988, 8]
Юрий Власенко (род. 1953)
[Кузьмин 1996, 81]
– не определяя, однако, в полной мере поэтики текста.
414
Эта тенденция в поэтике моностиха особенно хорошо развита во Франции: см., например, [Henke 2005, 432–434] о характере прустовских мотивов в моностихе Раймона Кено (1967):
В ЭТОТ САМЫЙ ДЕНЬ
– и об их преломлении в позднейшем моностихе Жака Рубо:
ФИЛАТЕЛИЯ
415
Для моностиха Перельмутера актуальны по меньшей мере четыре словарных значения: «Жить, быть в живых дольше кого-либо, после смерти, гибели кого-, чего-либо; Жить, существовать во время каких-либо событий, происшествий и т. п., переносить какие-либо (обычно тяжелые) события, явления окружающей жизни; Находить в себе силы перенести что-либо; Воспроизводить, как бы испытывая на самом себе или вновь, глубоко проникаться тем, что возникает в сознании» [ССРЛЯ, 9:603–606].
416
«Никто никогда не примечал перемены на этом открытом, ясном, веселом лице, которое было чистым зеркалом прямой и любезной души», – писал, например, П.А. Плетнёв [Плетнёв 1988, 31].
417
Строго говоря, работать посудомойкой Цветаева должна была не в Елабуге, а в Чистополе, но эта подробность в состав цветаевского биографического мифа вряд ли входит; утверждение елабужского писателя Станислава Романовского о том, что как раз в Елабуге Цветаева несколько дней все же работала посудомойкой, видимо, представляет собой художественный вымысел [Иванов 2011].
418
При том, что абсолютизировать это положение вещей, как делает А.Тумольский («ничтожное место занимала пейзажная лирика в андеграундной поэзии, не говоря уже об “актуальной литературе” современной России» [Тумольский 2000, 311]), также не стоит: у таких поэтов, как Геннадий Айги и Иван Жданов, пейзаж играет исключительно важную роль.
419
Нельзя, впрочем, полностью исключить интерпретацию этой пейзажной зарисовки как метафоры социальной жизни – в связи с тем, что лексема «гласность» употребляется в современной русской речи преимущественно в значении позднесоветского политического клише.
420
Еще радикальнее формулирует Е.В. Петровская, замечая (в связи с поэзией Аркадия Драгомощенко), что «образ уже не имеет отношения к визуализации», предъявляемый в поэтическом тексте пейзаж перестает быть видимым [Петровская 2013, 273].
421
Существенно также, что глагол дан в форме деепричастия, т. е. выражает дополнительное, побочное действие – при умолчании о характере основного. О функциях синтаксической неполноты в моностихах Нирмала см. [Кузьмин 2004, 234].
422
Согласно публичному рассказу автора, этот моностих планировался в качестве названия публикации Ахметьева в журнале «Новый мир» [Ахметьев 2001b], «но после того, как автор намекнул, что это не совсем ловко, поскольку текст, собственно, про другой толстый журнал, миниатюра оказалась вообще изъятой из подборки (т. е. в редакции, надо понимать, самостоятельно не уловили, о чем речь)» [ЛЖМ 2001, 6].
423
Впрочем, для идиолекта Андрукович достаточно обычное: «В мире Андрукович разреженный воздух (эта разреженность иконически дана в ее текстах – увеличенными межсловными пробелами и значительными отступами от левого края), людей в этом мире почти нет, а предметы попадают туда едва ли не случайно и выглядят пешками в игре трудноуловимых эмоциональных движений лирического субъекта» [Кузьмин 2003a, 449–450].
424
Впрочем, нельзя исключить в этом тексте и память о советском кинофильме «Через тернии к звездам», где «Астрой» назывался звездолет.
425
Ср. также замечание Л.В. Зубовой о возрастающей в новейшей поэзии частотности тропеических конструкций, в которых агент и референт не связаны никакой общей семантикой и подключены друг к другу через третий член тропа, актуализирующий при взаимодействии с одним из первых двух прямое значение, а с другим – переносное, либо два разных переносных значения в первом и втором случае [Зубова 2006, 898, 901].
426
Подробнее о многозначности в моностихах Нирмала см. [Кузьмин 2003b, 143–146].
427
Пейоративы разного рода в функции поддержания или установления более доверительного, интимного уровня коммуникации находятся в поле зрения лингвистов (например, [Culpeper 1996, 352]), однако подобные эффекты в поэтическом тексте, по-видимому, пока остаются неисследованными.
428
В связи с последней М. Ионова даже замечает, что в ее стихотворениях, «как бы ни был протяжен текст, всегда в архитектонике его почти интуитивно ощущаемым зерном присутствует моностих, формат для поэзии Татьяны Данильянц сущностный» [Ионова 2013, 296].
429
Книга стихов Ахматовой, подготовленная к печати в 1946 году, но так и не вышедшая. Виленкин имеет в виду машинопись книги в ОР РНБ (ф. 1073, ед. 72), содержащую позднейшие рукописные вставки и пометы.
430
«К ее “фрагментам” и “отрывкам” следует относиться с особым вниманием и бережностью. В. Жирмунский первым высказал предположение, что некоторые из них, в сущности, представляют собою законченное лирическое стихотворение, что их фрагментарность, отрывочность – мнимая, вернее, что она предусмотрена замыслом поэта. ‹…› Само собой разумеется, что и произвольно расширять этот ряд намеренно не законченных, но по существу завершенных стихов Ахматовой не следует; многое так и осталось у нее только черновым наброском, отдельной строкой или несколькими недописанными строками. Но и они бывают по-своему поэтически значительны…» [Виленкин 1983, 173–174]
431
В двух случаях публикаторские решения отличаются от решений Кралина: строка «Чьи нас душили кровавые пальцы?» завершается простым вопросительным знаком, не совмещенным с многоточием, строка «Твой месяц май, твой праздник – Вознесенье» записана «лесенкой», с выносом последнего слова на вторую «ступеньку».
432
Акт V, сцена вторая: «his delights / Were dolphin-like; they show'd his back above / The element they lived in». В переводе Бориса Пастернака: «Забавы не влекли его на дно, / Но выносили нáверх, как дельфина» (что, как это часто бывает с русскими переводами Шекспира, значительно упрощает образ подлинника).
433
Далее материалы этого архива обозначаются только номером единицы хранения.
434
К сожалению, в издании ахматовских записных книжек [Ахматова 1996] квадратные скобки используются в служебных целях – для выделения зачеркнутого Ахматовой текста; вследствие этого решения собственные квадратные скобки Ахматовой везде выправлены на круглые и специфика их использования исчезла.
435
Впервые упомянувшие об этом автоэпиграфе М.Б. Мейлах и В.Н. Топоров увязывали последующий отказ Ахматовой от него с отказом от первоначального названия стихотворения, «Говорит Дидона», в отсутствие которого самоидентификация лирического субъекта с Дидоной становится более условной [Мейлах, Топоров 1972, 43–44]; вряд ли это справедливо: апелляция в эпиграфе к шекспировскому, гораздо более позднему относительно «Энеиды» прецедентному тексту также нацелена на выход лирического субъекта в метапозицию по отношению к собственному переживанию.
436
В издании записных книжек такие графические элементы не отражаются; кроме того, имеющаяся в автографе «лесенка» (последние два слова перенесены на следующую строку и выровнены по правому краю) в печатной версии выровнена по левому краю с капитализацией начальной буквы в слове «устроила», – таким образом, строка пятистопного анапеста ненароком превращена в двустишие [Ахматова 1996, 168].
437
Связь этого одиночного образа с мыслями Ахматовой о Цветаевой и дельфинами из шекспировской трагедии, предполагаемая Кралиным, остается гадательной, но увязка его с выходом в свет первого значительного советского издания Цветаевой определенно неверна, поскольку строка появилась в записной книжке Ахматовой раньше – в августе 1964 года.
438
В издании записных книжек не отражаются вертикальные пробелы, вследствие чего два фрагмента слились во фрагментированное двустишие [Ахматова 1996, 370].
439
Об истории этой публикации см. [Хренков 1989, 188–191], – из этого мемуарного этюда следует, что Ахматова приняла решение об отдельной публикации четверостишия практически экспромтом.
440
Ср. также: «Фрагментарность стихового высказывания для А.А. – это попытка передать несвязность, дискретность памяти» [Тименчик 2005, 64]: постановка вопроса, стирающая грань между фрагментом умышленным – и фрагментом, окружение которого память не удержала.
441
Впрочем, в известных пределах. Характерно, что все «моностихи» Ахматовой представляют собой строки хорошо узнаваемого метра – и никто из публикаторов не пытается представить как моностих однострочные фрагменты иного рода, также имеющиеся в ее записных книжках: наиболее показательный пример – не появившаяся ни в одном новейшем издании Ахматовой, кроме собственно издания записных книжек, строка
– несмотря на то, что по карандашной пометке Ахматовой, заключившей в квадратные скобки буквосочетание «ты» в последнем слове (ед. 103 л. 45об; [Ахматова 1996, 160]), видно, что ее в этой строке интересовала именно стихотворность – давление звучания на значение. Условно говоря, у Владимира Эрля эта строка прочитывалась бы как совершенно определенный моностих, но для Ахматовой вероятнее, конечно, предположить, что это набросок или осколок более длинной ямбической строки с пиррихизированной третьей стопой, – даже несмотря на то, что в способе записи этой строки в автографе (не просто в изолированном виде, но даже и с отчеркиваниями выше и ниже) никаких указаний на предполагаемый контекст не обнаруживается.
442
Между тем ситуация с однострочными фрагментами, не вошедшими в состав какой-либо из книг Гуро и сохранившимися в ее архиве в разрозненном виде, более проблематична, – и это касается, в частности, восьми таких фрагментов, опубликованных А. Юнггрен [Гуро 1995, 56–58]. В отличие от Костюк, упоминающей и об этих фрагментах в своих рассуждениях про «моностихи Гуро», Юнггрен никак не настаивает ни на их стихотворности, ни на их завершенности, помещая их в раздел «Наброски и этюды» (Sketches and etudes). Взятые вне контекста, по меньшей мере два самых лаконичных из них вполне могли бы функционировать как моностихи:
ОСЕНЬ
ЭТЮД
– можно, в частности, обратить внимание на семантическую внутреннюю рифму «очами – окна» во втором тексте. В то же время очень показательно название «Этюд»: Гуро, будучи и художницей, переносит это понятие со всем комплексом его значений, как жанровых, так и технических, из визуального искусства, и для нее в этюде очень существенна «недоопределенность», его статус предварительного, неокончательного произведения, способного при этом к некоторому автономному существованию; о своем особом отношении к этюду она пишет Михаилу Матюшину: «Теперь я добиваюсь в этюде того, что именно составляет для меня красоту данного момента, ‹…› но все же есть какая-то громадная пропасть, которую не могу никак перешагнуть, ‹…› есть что-то, что не дает мне остановиться на каком-нибудь одном настроении и работать над ним, развить эскиз» [Гуро 1995, 97]. С учетом того, что, как показал в указанной статье Е.М. Биневич, метод композиции последней книги Гуро состоял в отборе и собирании этюдов-фрагментов в единое целое – квалификация оставшихся неотобранными фрагментов как самостоятельных представляется затруднительной.
443
Собственно, «Сборник стихотворений» – но в данном случае со вторым смыслом «Собранные стихотворения», намекая на возможность понимания вошедших в цикл текстов как found poetry. Некоторые тексты такое понимание допускают:
СЕСИЛИЯ
– но большинство – никоим образом:
ВРУЧНУЮ РАСКРАШЕННЫЕ УШИ СМЕРТИ
444
По поводу которых невозможно не согласиться с Коулом: они в самом деле совершенно органичны в качестве самодостаточных текстов:
445
Что, впрочем, не исключает появления в собрании Коула не менее сомнительных текстов, чем в собрании Владимира Маркова, но уже без оговорок вроде сделанной относительно набросков Рётке. Таковы, например, строка Уильяма Блейка из вполне прозаического произведения «Союз Небес и Преисподней» (1790) или относящийся к 1821 году однострочный фрагмент Перси Биши Шелли, впервые опубликованный У.М. Россетти в полном собрании сочинений Шелли [Shelley 1870, 343] (разумеется, на правах отрывка, а не однострочного стихотворения):
– а при одной из републикаций еще и получивший название («Дождь») [Shelley 1914, 653]. Впрочем, тщательное исследование записных книжек Шелли началось уже после появления антологии Коула, и к сегодняшнему дню, как отмечает Дж. Донован, установлено, что эта строка встречается в них четырежды (среди набросков «Оды западному ветру»), в том числе трижды вместе с разными редакциями следующей строки и лишь однажды без продолжения, зато с предшествующим (завершающим ненаписанную предыдущую строку) словом when (когда) [Shelley 2011, 23–25]. Публикуя строку Шелли без этого отброшенного «когда», Россетти-младший, тем самым, двигался к осознанию однострочной формы тем же путем, что и Лев Мей в России.
446
Слова Полония из наставления Лаэрту («Гамлет», действие первое, сцена третья, перевод Михаила Лозинского).
447
Журнал шутки ради был назван именем популярного американского актера, исполнявшего роли ковбоев. Уже в XXI веке канадский поэт Стюарт Росс, выпустивший в Торонто несколько номеров малотиражного журнала, полностью посвященного однострочным стихотворениям, в честь издания-предшественника назвал свой проект именем другого известного актера, «Peter O’Toole».
448
При такой интенсивной звуковой организации столь краткого текста не приходится думать об ином переводе, кроме подстрочного: «Видишь – весна: цветок вереска поднимается и оказывается пчелой».
449
Сложность с переводом этого названия состоит в том, что словом «transmental» по-английски часто передается русское «заумный» в приложении к поэзии русского футуризма. Кёркап, однако, не одно десятилетие проживший в Японии и интересующийся преимущественно японскими, а не русскими влияниями на английский стих (ср. прим. 140 на стр. 101), вроде бы в виду этого не имел. В отсутствие в русском языке иного прилагательного с близким значением и без неприемлемых коннотаций можно было бы передать название книги Кёркапа как «Отзвуки за гранью сознания».
450
Кёркап упоминает пословицы, скороговорки, рекламные слоганы, отдельно взятые фразы-примеры из языковых учебников, палиндромы, извлеченные из прозаических источников читательские моностихи – набор соотносимых с моностихом явлений не слишком расходится с аналогичными рассуждениями В.Ф. Маркова, за вычетом разве что слишком смелого для Маркова пассажа о том, что «обрывки писем, выброшенные в сточную канаву, подчас открывают потаенные однострочные стихотворения, ненароком сочиненные каким-нибудь страдающим от несчастной любви плутишкой» [Kirkup 1971, 8].
451
Многослойной интерпретации моностиха Деррида, построенного на омонимии синтаксических конструкций и потому практически непереводимого:
– посвящена увлекательная статья [Naas 2008].
452
Сведения из письма Азиза Алема от 17.02.2015 и из беседы с ним.
453
В отдельных случаях мы вынуждены при исследовании этих вопросов вновь возвращаться к текстам, так или иначе уже проанализированным в ходе исторического обзора.
454
Самые общие аспекты его изучения намечены в [Орлицкий 2002, 564–577]. В зарубежной литературе ряд принципиальных положений предложен в [Hollander 1975, 212–227], наиболее подробным исследованием остается [Ferry 1999].
455
Собственно, Дж. Холландер непосредственно отмечает возрастающую роль названия в особо кратких текстах – доходя даже до приравнивания его к первому стиху (seems to serve as a first line) [Hollander 1975, 224–225], – а в более поздней работе еще категоричнее: «Однострочное стихотворение почти всегда на самом деле представляет собой двустишие, образованное названием и собственно стихом» [Hollander 2014, 11–12]. Аналогично у Э. Хирша (по поводу моностихов А.Р. Эммонса): «название столь неотъемлемо от стихотворения (so integral to the poem), что оно превращается в своего рода двустишие» [Hirsch 2014, 390]; несколько осторожнее у У. Уоткина в связи с моностихами Кеннета Коха: «стихотворения столь коротки, что различие между названием и стихотворением решительно ставится под вопрос» [Watkin 2000, 102] и у Т. Келариу в связи с моностихами Иона Пиллата: название «умаляет обаяние чистого моностиха» [Chelariu 1989, 50].
456
Ср. замечание И.И. Ковтуновой о том, что в лирическом стихотворении заглавие и текст «нередко выступают как поэтические аналоги темы и ремы» [Ковтунова 1986, 147].
457
Ср. размышления Б.П. Иванюка о различии между текстами «с ассоциативным типом сходства» (референт сравнения предшествует агенту) и «стихотворениями-уподоблениями» (обратная последовательность) [Иванюк 1998, 164, 226–227].
458
Обратимость отношений между текстом и названием подвергается особой проблематизации в том случае, когда инвертирована не только логика их соединения, но и объем, – например, в «удетеронах» (однословных текстах) в понимании Йена Хэмилтона Финлея и его соратников по шотландской школе поэтической миниатюры (см. стр. 46):
КАМНИ В ПОЛЕ ЭТО ПТИЦЫ В ВОЗДУХЕ
Йен Хэмилтон Финлей
БЛАГОУХАННАЯ НОЧЬЮ КУВШИНКА
Томас Кларк
[Atoms 2000, 161, 173]
– возможно, прецедентным типом текста для такой конструкции является загадка.
459
Впрочем, повтор заглавия в тексте, особенно в сильных позициях текста – начале и конце, сам по себе достаточно характерен [Кожина 1988, 170–171]. Следует, однако, возразить против предложения терминологизировать названия, непосредственно повторяемые в тексте, как «тавтологические» [Иванченко и др. 2015, 270]: такой термин без должных оснований имплицирует самоочевидность, тривиальность выделения в данном поэтическом тексте центрального предмета высказывания.
460
Ср. данные опроса поэтов в [Иванченко и др. 2015, 305] – хотя базу этого опроса и сложно назвать репрезентативной.
461
Те или иные формы звуковой корреляции названия и текста встречаются и в текстах большего объема [Кожевникова 1988, 210–212; Иванченко и др. 2015, 270–271], однако характер их, в силу значительного различия в объеме названия и текста, иной.
462
Ср. также выполненный Х. Вендлер анализ стихотворения У.С. Мервина (стр. 39–40).
463
Об аналогичных модификациях многоточия у других авторов см. [Суховей 2008, 118].
464
Относительно высокая частотность этого знака – за счет 33 употреблений у одного автора, Валентина Загорянского, культивирующего своеобразную медитативно-экстатическую интонацию:
[Загорянский 2000, 102]
465
Сходные соображения, хотя и в более мягкой форме, встречаются и у других специалистов: «моностих stricto sensu не только ограничен одной строкой, но и не должен вводить подрывающие <ее целостность> элементы средствами синтаксиса, пунктуации, дополнительных пробелов: его цель – создание единого образа в едином предложении» [Moga 2007, 49] или «настоящие однострочные стихотворения ‹…› не содержат принудительных пауз, обозначенных пробелом, грамматически, синтаксически или пунктуационно, хотя и могут включать логическую пунктуацию, как в случае однородных прилагательных при существительном» [Higginson 2004].
466
«Новый знак препинания: недоконченная строка, благодаря которому нам не приходится уже гадать о ритмических замыслах автора» [Пешковский 1925, 166]. Вряд ли можно признать правомерным приравнивание знаков, отражающих ритмическую структуру текста, к знакам, отражающим его синтаксическую и интонационную (в итоге, следовательно, смысловую) структуру.
467
Ср., однако, замечание И.И. Плехановой о том, что лишь минимализм «очищает» моностих «от строгости формы – от знаков препинания завершенного высказывания» [Плеханова 2007, 264] – из контекста, однако, видно, что для Плехановой пунктуация существенна как знак апелляции к языковой норме, а не как отражение сегментированности текста.
468
Ср. также замечание Эммануэля Окара по поводу моностиха Жозефа Гульельми:
– где увеличенный пробел соответствует времени перефокусировки взгляда, поскольку стихотворение в целом передает последовательность впечатлений [Hocquard 1995, 9].
469
Подробнее об этих текстах речь шла выше (см. стр. 262–263).
470
«Пространственно-визуальной» по Дж. Янечеку, противопоставляющему эту функцию семантико-синтаксической и интонационно-экспрессивной [Janecek 1996b, 297].
471
Особенно характерен для Айги начальный союз «и» с двоеточием после него [Janecek 1996b, 302], важность начального «и» и двоеточия для собственной поэтики была отрефлексирована и самим Айги [Айги 2008, 391].
472
Ср. у М.И. Шапира, автора наиболее фундаментальной стиховедческой концепции последнего времени: «Дедуктивное определение стиха наука дать не в состоянии. Индуктивным это определение тоже быть не может: сколько бы стихов мы ни рассматривали, мы не вправе утверждать, что прочие обладают теми же признаками. ‹…› Вместо того, чтобы ориентироваться на привычные, типовые формы стиха, надо сосредоточиться на аномалиях. При условии, что маргинальные явления учтены нами достаточно широко, они очертят собой эмпирическое поле, в центр которого попадут наиболее распространенные случаи» [Шапир 2000d, 81–82].
473
В этом смысле предложенная С.И. Кормиловым теория контекстно обусловленной стихотворности (в частности, моностиха), с которой мы полемизируем, лежит – вполне возможно, помимо воли и сознания автора – в русле общей тенденции, хотя, конечно, и для постструктурализма, и для различных социологизирующих концепций мыслимый Кормиловым контекст слишком «близкий», слишком еще внутрилитературный.
474
Любопытно, что Девото приходит к этому выводу без анализа моностиха, опираясь исключительно на сопоставление различных определений стиха у испанских, французских, немецких, португальских специалистов – и на исследование способов взаимодействия ритмики и графики в многострочном тексте.
475
В качестве самостоятельного текста – у Бонифация (Германа Лукомникова), ранее встречалось в составе текста-коллажа «Ералаш» у Вагрича Бахчаняна [Бахчанян 2005, 27].
476
А.В. Бубнов для таких текстов предлагает несколько комичный термин «полупантограмма» [Бубнов 2000, 99].
477
В статье [Кузьмин 2014], излагая ее в самых общих чертах, мы наметили возможность дополнительной ее концептуализации (как перехода от понимания одиночной строки как строки, к которой не дописаны другие, к пониманию одиночной строки как строки, от которой, мысленно или действительно, отсечены остальные/лишние), для которой в настоящем издании не нашлось места.
478
Ср. рассуждения П. Бюргера о том, что «авангард первым раскрывает общий характер определенных общих категорий произведения» [Бюргер 2014, 30].
479
Ранее об этом можно было говорить применительно к Владимиру Маркову, Ры Никоновой, Владимиру Эрлю – в каждом случае с существенными оговорками.
480
Хотя проблема названия в художественном тексте в последнее время становится более видимой в научном сообществе – в том числе благодаря нескольким организованным усилиями Ю.Б. Орлицкого научным конференциям, материалы которых, к сожалению, по большей части не изданы.
481
Несколько книг, содержащих разноприродные материалы (например, книга [Бурич 1989], включающая как стихи, так и научные работы), поименованы дважды в разных разделах.

Это история о Рике, бывшем полицейском Закрытого города — колонии для опасных преступников, которому после трагической гибели семьи пришлось стать наёмником и зарабатывать на жизнь выполнением заданий, от которых отказываются остальные. Судьба свела его с юной девушкой Алисой, которая хочет узнать правду о своём отце, но для этого им нужно выполнить очередное задание от Синдиката, одной из трёх влиятельных группировок города. Но на этот раз всё сразу пошло наперекосяк…

Учебник предназначен для старших классов школы (гуманитарных классов или гимназий и лицеев), им можно пользоваться не только на уроках литературы, но и на уроках русского языка. Учебник также ориентирован на студентов первых курсов гуманитарных факультетов филологических и нефилологических специальностей и на зарубежных студентов, изучающих славистику. Кроме того, он может служить основой гуманитарного курса по выбору для студентов негуманитарных специальностей.

Он любил свою жизнь: легкая работа, друзья, девушка, боевые искусства и паркур. Что еще было желать экстремалу Игорю Лисицину по кличке Лис? Переезду в фэнтези-мир, где идет борьба за власть между двумя графами? Где магия под запретом, и везде шныряют шпионы-паладины? Вряд ли. Но раз так вышло, то деваться некуда. Нужно помочь новым друзьям, не прогнуться под врагами и остаться честным к самому себе. И конечно, делать то, что умеешь лучше всего — драться и прыгать. КНИГА НЕ ВЫЧИТЫВАЛАСЬ.

Эмма Смит, профессор Оксфордского университета, представляет Шекспира как провокационного и по-прежнему современного драматурга и объясняет, что делает его произведения актуальными по сей день. Каждая глава в книге посвящена отдельной пьесе и рассматривает ее в особом ключе. Самая почитаемая фигура английской классики предстает в новом, удивительно вдохновляющем свете. На русском языке публикуется впервые.

Книга представляет собой серию очерков письменной культуры мусульманского периода истории Ирана. В отдельных ее статьях-очерках рассматриваются вопросы авторского самосознания, степени престижности научного и литературного творчества, социального статуса и функции труда поэта и его оплаты, общественного звучания и роли рукописной книги в иранском феодальном обществе.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.
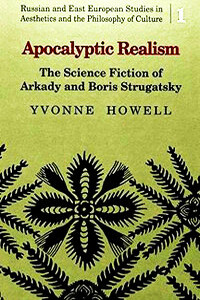
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

Проблема фальсификации истории России XX в. многогранна, и к ней, по убеждению инициаторов и авторов сборника, самое непосредственное отношение имеет известная книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике представлены статьи и материалы, убедительно доказывающие, что «главная» книга Солженицына, признанная «самым влиятельным текстом» своего времени, на самом деле содержит огромное количество грубейших концептуальных и фактологических натяжек, способствовавших созданию крайне негативного образа нашей страны.

Особая творческая атмосфера – та черта, без которой невозможно представить удивительный город Одессу. Этот город оставляет свой неповторимый отпечаток и на тех, кто тут родился, и на тех, кто провёл здесь лишь пару месяцев, а оставил след на столетия. Одесского обаяния хватит на преодоление любых исторических превратностей. Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили.