Русский край, чужая вера - [15]
Кроме основной, межконфессиональной, в книге есть и другая значимая линия компаратива и учета взаимных перекрещивающихся влияний – «межокраинная». Реализация данного исследовательского проекта пришлась на годы бума научной литературы по Российской империи (и российской имперскости) вообще и по ее периферийным регионам в частности. Новые монографии существенно усложнили представления историков о том, как было устроено управление этими огромными территориями. Более того, поток case studies периодически побуждает историков к попыткам реконструкции некоей единой системы управления окраинами или по крайней мере общей логики, которая руководила властями при выборе подхода к конкретным регионам и группам населения[66]. Не ставя перед собой столь амбициозной задачи, я стремился по возможности учесть эту кросс-региональную перспективу и включить свою книгу в диалог исследователей разных, даже самых удаленных друг от друга окраин. В каком-то смысле имперская Вильна находилась ближе к имперскому Ташкенту, чем может показаться при взгляде на карту, и исследователям, пожалуй, надо брать пример со своих героев – генерал-губернаторов и других чиновников, которые, презрев соображения специализации, во исполнение царской воли охотно отправлялись к новому, далекому месту службы. Географические траектории карьер этих чиновников очерчивают маршруты, по которым в империи передавался управленческий опыт, шел обмен информацией и экспертными сведениями, расползались предубеждения и стереотипы.
Поскольку, однако, над историками нет инстанции, которая с такой же легкостью перебрасывала бы их из варшавских и вильнюсских архивов в тбилисские или ташкентские и сводила бы их всех вместе в петербургских, приходится наводить мосты своими силами. Даже беглого сопоставления достаточно, чтобы констатировать различия между исследованиями по «европейским» и «азиатским» окраинам – различия и в методологических предпочтениях (в особенности по части применения, наряду с историческими, антропологических методов), и в конфигурации предмета исследования, и в подборе источников. Так, работы по истории политики идентичностей на Северном Кавказе и в Закавказье, в Поволжье, Туркестане, Сибири рисуют картину более сложного, чем мы видим в большинстве штудий по Западному краю, взаимодействия локальных акторов с имперскими; более изощренных и интеллектуально насыщенных, менее зависимых от бюрократии дебатов о русскости и обрусении, ассимиляции и цивилизаторской миссии[67]. Вполне отчетливо такие трактовки перекликаются с постколониальными интерпретациями имперского господства, которые подчеркивают участие подвластного населения в производстве колониального знания, а также имевшиеся у него возможности обращать в свою пользу функционирование режима.
Конечно, отмеченная разница объясняется в какой-то мере тем, что в восточных и южных регионах, где угроза сепаратизма не переживалась столь остро, как на землях бывшей Речи Посполитой, империя в лице и бюрократов, и ученых, и миссионеров смелее экспериментировала, например поощряла языковую и культурную самобытность меньших этнических групп, вплоть до опытов, предвосхищавших советскую территориализацию этничности. При этом мог открываться больший простор научной экспертизе, самодеятельности духовенства, инициативам «инородческой» интеллигенции, традициям «туземной» учености.
Но причина «этатистской» односторонности в изучении западных окраин состоит и в том, что сами исследователи невольно воспроизводят схемы мышления бюрократии, которая, в соответствии с идеологией «русского дела», превозносила миссию государства на стратегически важной западной периферии. Потому-то историки уделяют главное внимание официальным документам, недооценивая или вскользь интерпретируя свидетельства других источников, прежде всего частной эпистолярии, о сложном и полном противоречий культурном мире русификаторов на западе империи. Отсюда принципиальная задача данного исследования: раскрыть внеслужебные, неформальные побуждения и референции в деятельности чиновников; оценить значение, которое имели для бюрократических решений контакты с духовными лицами разных конфессий, прессой и научной средой; учесть подверженность чиновников веяниям культурного и интеллектуального климата. Я далек от мысли представить русификаторскую политику продуктом некоего равноправного сотрудничества между бюрократией и другими акторами или абстрактной равнодействующей множества разнородных сил. Она была, безусловно, творением государства, продуктом авторитарной государственной воли, но сама эта воля формировалась на разных уровнях бюрократической компетенции и обуславливалась действительно немалым числом факторов, долгосрочных и ситуативных.
Глава 1
Политизация религиозности: основания и антиномии конфессиональной политики империи
В 1868 году специальная Ревизионная комиссия «по делам римско-католического духовенства в Северо-Западном крае», учрежденная двумя годами ранее виленским генерал-губернатором К.П. Кауфманом, одним из самых активных борцов с «полонизмом» и «латинством», представила в Министерство внутренних дел отчетную записку о своей деятельности. Особое внимание в этом документе было уделено рекомендованным комиссией мерам по регламентации культа и ограничению массовых проявлений религиозности – мерам, которые уже успели к тому времени навлечь на имперскую администрацию обвинения в грубейшем нарушении канонического права:

Небольшая книга об освобождении Донецкой области от немецко-фашистских захватчиков. О наступательной операции войск Юго-Западного и Южного фронтов, о прорыве Миус-фронта.

В Новгородских писцовых книгах 1498 г. впервые упоминается деревня Струги, которая дала название административному центру Струго-Красненского района Псковской области — посёлку городского типа Струги Красные. В то время существовала и деревня Холохино. В середине XIX в. основана железнодорожная станция Белая. В книге рассказывается об истории этих населённых пунктов от эпохи средневековья до нашего времени. Данное издание будет познавательно всем интересующимся историей родного края.
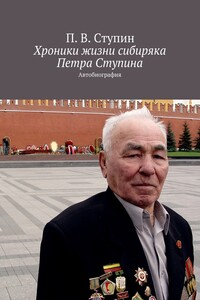
У каждого из нас есть пожилые родственники или знакомые, которые могут многое рассказать о прожитой жизни. И, наверное, некоторые из них иногда это делают. Но, к сожалению, лишь очень редко люди оставляют в письменной форме свои воспоминания о виденном и пережитом, безвозвратно уходящем в прошлое. Большинство носителей исторической информации в силу разнообразных обстоятельств даже и не пытается этого делать. Мы же зачастую просто забываем и не успеваем их об этом попросить.

Клиффорд Фауст, профессор университета Северной Каролины, всесторонне освещает историю установления торговых и дипломатических отношений двух великих империй после подписания Кяхтинского договора. Автор рассказывает, как действовали государственные монополии, какие товары считались стратегическими и как разрешение частной торговли повлияло на развитие Восточной Сибири и экономику государства в целом. Профессор Фауст отмечает, что русские торговцы обладали не только дальновидностью и деловой смёткой, но и знали особый подход, учитывающий национальные черты характера восточного человека, что, в необычайно сложных условиях ведения дел, позволяло неизменно получать прибыль и поддерживать дипломатические отношения как с коренным населением приграничья, так и с официальными властями Поднебесной.

Эта книга — первое в мировой науке монографическое исследование истории Астраханского ханства (1502–1556) — одного из государств, образовавшихся вследствие распада Золотой Орды. В результате всестороннего анализа русских, восточных (арабских, тюркских, персидских) и западных источников обоснована дата образования ханства, предложена хронология правления астраханских ханов. Особое внимание уделено истории взаимоотношений Астраханского ханства с Московским государством и Османской империей, рассказано о культуре ханства, экономике и социальном строе.

Яркой вспышкой кометы оказывается 1918 год для дальнейшей истории человечества. Одиннадцатое ноября 1918 года — не только последний день мировой войны, швырнувшей в пропасть весь старый порядок. Этот день — воплощение зародившихся надежд на лучшую жизнь. Вспыхнули новые возможности и новые мечты, и, подобно хвосту кометы, тянется за ними вереница картин и лиц. В книге известного немецкого историка Даниэля Шёнпфлуга (род. 1969) этот уникальный исторический момент воплощается в череде реальных судеб: Вирджиния Вулф, Гарри С.

Коллективизация и голод начала 1930-х годов – один из самых болезненных сюжетов в национальных нарративах постсоветских республик. В Казахстане ценой эксперимента по превращению степных кочевников в промышленную и оседло-сельскохозяйственную нацию стала гибель четверти населения страны (1,5 млн человек), более миллиона беженцев и полностью разрушенная экономика. Почему количество жертв голода оказалось столь чудовищным? Как эта трагедия повлияла на строительство нового, советского Казахстана и удалось ли Советской власти интегрировать казахов в СССР по задуманному сценарию? Как тема казахского голода сказывается на современных политических отношениях Казахстана с Россией и на сложной дискуссии о признании геноцидом голода, вызванного коллективизацией? Опираясь на широкий круг архивных и мемуарных источников на русском и казахском языках, С.

В.Ф. Райан — крупнейший британский филолог-славист, член Британской Академии, Президент Британского общества фольклористов, прекрасный знаток русского языка и средневековых рукописей. Его книга представляет собой фундаментальное исследование глубинных корней русской культуры, является не имеющим аналога обширным компендиумом русских народных верований и суеверий, магии, колдовства и гаданий. Знакомит она читателей и с широким кругом европейских аналогий — балканских, греческих, скандинавских, англосаксонских и т.д.
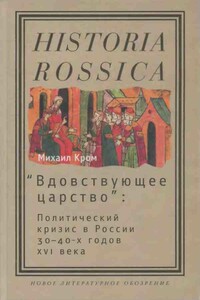
Что происходит со страной, когда во главе государства оказывается трехлетний ребенок? Таков исходный вопрос, с которого начинается данное исследование. Книга задумана как своего рода эксперимент: изучая перипетии политического кризиса, который пережила Россия в годы малолетства Ивана Грозного, автор стремился понять, как была устроена русская монархия XVI в., какая роль была отведена в ней самому государю, а какая — его советникам: боярам, дворецким, казначеям, дьякам. На переднем плане повествования — вспышки придворной борьбы, столкновения честолюбивых аристократов, дворцовые перевороты, опалы, казни и мятежи; но за этим событийным рядом проступают контуры долговременных структур, вырисовывается архаичная природа российской верховной власти (особенно в сравнении с европейскими королевствами начала Нового времени) и вместе с тем — растущая роль нарождающейся бюрократии в делах повседневного управления.
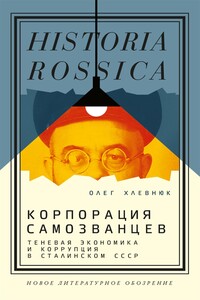
В начале 1948 года Николай Павленко, бывший председатель кооперативной строительной артели, присвоив себе звание полковника инженерных войск, а своим подчиненным другие воинские звания, с помощью подложных документов создал теневую организацию. Эта фиктивная корпорация, которая в разное время называлась Управлением военного строительства № 1 и № 10, заключила с государственными структурами многочисленные договоры и за несколько лет построила десятки участков шоссейных и железных дорог в СССР. Как была устроена организация Павленко? Как ей удалось просуществовать столь долгий срок — с 1948 по 1952 год? В своей книге Олег Хлевнюк на основании новых архивных материалов исследует историю Павленко как пример социальной мимикрии, приспособления к жизни в условиях тоталитаризма, и одновременно как часть советской теневой экономики, демонстрирующую скрытые реалии социального развития страны в позднесталинское время. Олег Хлевнюк — доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института советской и постсоветской истории НИУ ВШЭ.