Русские символисты - [10]
Идея религиозного синтеза, выношенная в умозрительных исканиях, проходит теперь красной нитью и в поэтических текстах Гиппиус:
Эти строки — из стихотворения «Белая одежда» (1902), заключительного в первой поэтической книге Гиппиус «Собрание стихов 1889–1903». Открывается книга ее известнейшим стихотворением «Песня» («Окно мне высоко над землею…») — своего рода катехизисом «декадентства», заканчивается — стихотворением, утверждающим силу божественного абсолюта и сопровождаемым эпиграфом из Апокалипсиса. Зримо запечатлев совершившийся цикл внутренней жизни, «Собрание стихов», вышедшее в свет в конце 1903 г., стало определенным итогом творческого становления и одновременно воплощением поэтической индивидуальности, раскрывшейся во всем своем масштабе и многообразии [63]. И в то же время «Собрание стихов» — не только личностный итог: не случайно Иннокентий Анненский, отнюдь не склонный к дифирамбическим формулировкам, отметил, имея в виду прежде всего эту книгу, что в творчестве Гиппиус отразилась «вся пятнадцатилетняя история нашего лирического модернизма»[64].
В альбом поэта Д. Н. Фридберга Гиппиус занесла следующую запись: «Символизм делает прозрачными явления жизни и говорит понятно о непонятном»[65].
Как нередко бывает с суждениями на общие темы, они не столько отражают реальное положение вещей, сколько сигнализируют об убеждениях и предпочтениях высказавшего их. Приведенное лапидарное определение творческого метода — безусловно, из этого ряда. Говоря о символизме, Гиппиус не сочла необходимым подчеркнуть, что имеет в виду прежде всего собственное понимание символизма и свои творческие задачи, осуществляемые под знаком названного эстетического направления.
«Прозрачность» как непременное условие поэтической интерпретации явлений жизни означала для Гиппиус в первую очередь метафизический ракурс в их осмыслении. Ее стихи перенасыщены вполне конкретными земными реалиями, но впечатления жизненной конкретности и определенности от этого не возникает: поэтические образы и мотивы лишены самоценного значения, они лишь указывают, «кивают» (как позднее, касаясь символизма в целом, отметит О. Мандельштам в статье «О природе слова») на те смыслы, которые за ними угадываются. Образная ткань стихотворения предстает как эманация отвлеченных понятий и представлений, как форма выражения невыразимого. «Материальный», условно говоря, мир поэзии Гиппиус скрепляется нематериальными связями и освещается потусторонними лучами. Характерно в заглавиях ее стихотворений изобилие местоимений, обстоятельственных слов, указывающих на признаки действия, качества или предмета, а также слов служебных, обозначающих различные семантические отношения («Там», «Вместе», «Ничего», «Нет», «Они», «Между», «Ты», «Если», «Опять», «Так ли?», «Оно», «Сызнова», «Внезапно», «А потом…?», «Напрасно», «Непоправимо», «Оттуда?», «Пока», «Тогда и опять» и т. д.); эти предпочтения отражают специфику поэтического мировидения Гиппиус: субстанция и живительный нерв ее творчества — не реалии, а соотношения, условные умопостигаемые линии между реалиями, главным образом — между реалиями явленными, «физическими», и метафизическими.
Сама Гиппиус признавалась, что не видит особого интереса в сочинении вещей «посюсторонних», не выходящих за пределы жизненных горизонталей: «Я <…> очень искренно считаю себя неспособной к вещам трезвым, сочным, как я выразилась — „из плоти и крови“. Именно теперь я пишу подобную вещь (в последний раз!) и с каждой строкой в отчаянии повторяю: не то! не то! И веселья никакого нет в писании, душа участвует лишь наполовину, и я с нетерпением жду момента, когда опять начну что-нибудь в моем духе — на пол-аршина от земли»[66]. Именно в стихотворчестве Гиппиус более всего удавалось достигать желаемого состояния — «на пол-аршина от земли». «…Нет поэта более отрешенного от всего зримого», — подчеркивал Д. П. Святополк-Мирский. И в то же время Гиппиус присуще, по его же словам, едва ли не единственное в русской литературе умение воплощать «глубочайшие абстрактные переживания» «в образы изумительно жуткой конкретности»[67].
образ, выстраиваемый в этой строфе стихотворения «Она» (1905), казалось бы, в своей сугубой вещности вполне дистанцирован от авторского «я», однако на деле он — его непосредственная проекция, точнее — проекция тех его негативных аспектов, которые оказались в эпицентре пристрастного поэтического самоанализа:
Метафизические сферы Гиппиус пытается одолеть и освоить не путем ухода от мира явлений или его «теургического» преображения, а через обнаружение в самих явлениях их ноуменальной, умопостигаемой, «прозрачной» сущности. «Гиппиус пошла не мимо, а

В новую книгу известного историка русской литературы А.В. Лаврова, автора многочисленных статей и публикаций новонайденных материалов, относящихся в основном к деятельности русских символистов, вошли преимущественно работы, публиковавшиеся в последнее десятилетие (в том числе в малодоступных отечественных и зарубежных изданиях). Книгу открывают циклы статей, посвященных поэту-символисту Ивану Коневскому и взаимоотношениям Валерия Брюсова с героинями его любовной лирики. В других работах анализируются различные аспекты биографии и творчества крупнейших писателей XX века (Вяч.
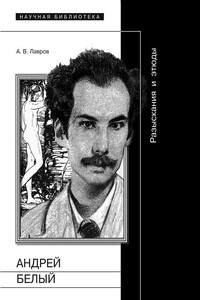
В книгу вошли избранные статьи и публикации известного исследователя истории русской литературы символистской эпохи, посвященные изучению жизни и творческих исканий Андрея Белого и в большинстве своем опубликованные ранее в различных отечественных и зарубежных изданиях, начиная с 1970-х гг. В ходе работы над книгой многие из них исправлены и дополнены по сравнению с первопечатными версиями. Биография и творчество Андрея Белого анализируются в широком контексте современной ему литературной жизни; среди затрагиваемых тем — поэзия Белого, его романы «Серебряный голубь» и «Петербург», мемуарное наследие писателя.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка В.Г. Белинского в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю».