Русские цветы зла - [26]
Людочка даже испугалась этих никогда в ней не возникавших взрослых мыслей, таких отчетливых и простых. И вообще она не была дурой, она в уединенности своей ого-го-го как умела сама с собой разговаривать, но выступит на свет, на люди — и робеет, становится той глупенькой, бледненькой девочкой, за которую ее принимали в школе, едва шелестящую губами, тихо роняющую зазубренные даты царствования римского императора Августа. Особенно же не давался ей почему-то год открытия Америки Христофором Колумбом. Про Америку она читала и кое-что видела по телевизору, с удовольствием бы рассказала, но нужна-то не Америка, а дата — и двойка тебе, да еще и назидание вослед: «Когда ветер в голове гулять перестанет, выучишь, исправишь. Мне двоечники в отчете не надобны!..»
Людочка упятилась в кусты, руслом ручья поднялась до верхней дороги. Переоделась дома в сухое, легкое платье, со смехом рассказала матери о том, как отчим купается.
— Да где же ему было купанью-то обучиться? С малолетства в ссылках да лагерях, под конвоем да охранским доглядом в казенной бане. У него жизнь-то ох-хо-хо… — Спохватившись, мать построжела и, словно кому-то доказывая, продолжала: — Но человек он порядочный, может, и добрый.
С тех самых пор, с купанья отчима, Людочка перестала его бояться, но ближе они все же не сделались. Отчим близко к себе никого не допускал. Сейчас вот, на лугу, за покинутой родной деревней, она вдруг ощутила такую острую тоску, такую неодолимую тягу к кому-нибудь живому, что подумалось: побежать бы в леспромхоз, за семь верст, найти отчима, прислониться к нему и выплакаться на его грубой груди. Может, он ее погладит по голове, а то и пожалеет…
— Я уеду с утренней электричкой. Ты не возражаешь?
Мать вскинулась, что-то вылавливая в своей голове, сосредоточенно думала, прикинула и выдохнула, подавив в себе тревогу:
— Ну что ж… коли надо, дак…
— Х-ха, быстро-то как! — удивилась Гавриловна. — Что у родителей-то, тесно?
— Они к переезду готовятся.
— К переезду? Тогда конечно. Чем там под ногами путаться, лучше здесь… Чем родители порадовали?
— Да вот. — Людочка пнула стоящий на полу мешок и заплакала, узнав веревочку, приделанную вместо лямки. Из четырех неизносчивых ниток эта веревочка: две коричневые, из овечьей шерсти, почерневшие от времени, и две шелковисто-белые. Конец каната когда-то выменяли вычугане на туристском катере, расплели и веревок на всю деревню понаделали. Крепкущих. Вот она, плотно скрученная веревочка! Мать сказывала, что привязывала ее к люльке, совала ногу в петлю и чистила картошку, готовила пойло корове, пряла, починяла и зыбала ногой люльку с ребенком. «А ты ревливая была. Качаю, качаю, пою, пою: баю-баюшки, баю, не ложися на краю… А ты все ревешь… Плюну я, да чтоб тебя разорвало, заору. Ты с испугу зальешься пуще того…»
— Чего плачешь-то?
— Маму жалко.
— А-а, маму? Меня вот и пожалеть некому… — Гавриловна помолчала и другим уже голосом повела: — Ты вот чё, девонька… хым… хым… стало быть. Артемку — банное мыло-то забрали… Исцарапала ты его шибко… примета. Ему велено помалкивать, иначе смерть. И это самое… от Стрекача были, упредили: если ты пикнешь где, тебя к столбу гвоздями прибьют, мою избу спалят…
Долго и тягостно молчали в дому Гавриловны. Наконец Гавриловна пошевелилась, нащупала голову Людочки в пространстве, прижала к вислой груди, под которой далеко-далеко где-то, пьяно шатаясь, ходило вприсядку, поплясывало изношенное сердце.
— У меня ведь и всех благ — свой угол. Я за него всю жизнь положила, работала как конь, огородиной торговала, от еды отрывала, отпуска единого не пользовала. Люди добрые и в санаторьи морски либо в профилакторьи трудовые, а я покидаю инструменты в чемодан под названием саквояж и по деревням родимым — вшей обирать… Сколько я чесоткой маялась, лишаев да волосяных стригунов навидалась, чтоб копейкой этой разжиться, на избу накопить. Стыдно признаться и грех утаить — одеколон разбавляла… Я ведь и по тюрьмам стригла. На легкую-то работу, в дамский зал, меня уж перед пенсией перевели…
— Хорошо, хорошо. Я в общежитие пойду, — тряхнула головой Людочка, но головы от пригревшей ее груди не отнимала и все слышала, слышала, как мучается человеческое сердце, торопится куда-то.
— Временно. Временно, хорошая моя. Бандюга этот долго не нагуляет… утомлятца он на воле быстро… Он засядет, а я тебя и созову обратно… — Гавриловна ласкала ее голову руками, причесывала гребенкой и в сумерках уже всхлипывала: — Господи! Да отчего же это добрым людям покоя-счастья нету? Зачем оне вечно в тревоге да в переживанье? Будет ли им хоть какое послабление?..
Когда Людочка подросла и смогла самостоятельно передвигаться, каждый день уезжать и приезжать с центральной усадьбы колхоза, где была школа-десятилетка, ведение дома почти полностью перешло на нее. Однажды по весне, к Пасхе, что ли, словом, к какому-то большому весеннему празднику она белила печь, мыла окна, скоблила, вытирала и, когда полоскала половики на реке, соскользнула в неглубокую, но холодную полынью. Солнце уже пригревало хорошо, ока не убежала домой, решив довести работу до конца. И простудилась. У нее поднялся большой жар, дело кончилось районной больницей. Мест, как и в каждой нашей общенародной, тем паче в районной, больнице не было, и, как водится в наших больницах, и не только в районных, временно определили Людочку лежать в коридоре, на всех ветрах-сквозняках с воспалением-то легких.
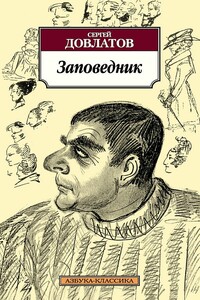
Сергей Довлатов — один из наиболее популярных и читаемых русских писателей конца XX — начала XXI века. Его повести, рассказы и записные книжки переведены на множество языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах. «Заповедник», «Зона», «Иностранка», «Наши», «Чемодан» — эти и другие удивительно смешные и пронзительно печальные довлатовские вещи давно стали классикой. «Отморозил пальцы ног и уши головы», «выпил накануне — ощущение, как будто проглотил заячью шапку с ушами», «алкоголизм излечим — пьянство — нет» — шутки Довлатова запоминаешь сразу и на всю жизнь, а книги перечитываешь десятки раз.
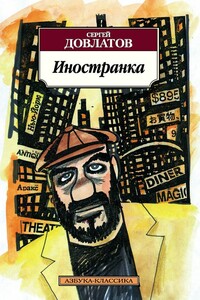
Сергей Довлатов — один из наиболее популярных и читаемых русских писателей конца XX — начала XXI века. Его повести, рассказы и записные книжки переве дены на множество языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах. «Заповедник», «Зона», «Иностранка», «Наши», «Чемодан» — эти и другие удивительно смешные и пронзительно печальные довлатовские вещи давно стали классикой. «Отморозил пальцы ног и уши головы», «выпил накануне — ощущение, как будто проглотил заячью шапку с ушами», «алкоголизм излечим — пьянство — нет» — шутки Довлатова запоминаешь сразу и на всю жизнь, а книги перечитываешь десятки раз.

Рассказ о мальчике, который заблудился в тайге и нашёл богатое рыбой озеро, названное потом его именем.«Это озеро не отыщешь на карте. Небольшое оно. Небольшое, зато памятное для Васютки. Еще бы! Мала ли честь для тринадцатилетнего мальчишки — озеро, названное его именем! Пускай оно и не велико, не то что, скажем, Байкал, но Васютка сам нашел его и людям показал. Да, да, не удивляйтесь и не думайте, что все озера уже известны и что у каждого есть свое название. Много еще, очень много в нашей стране безымянных озер и речек, потому что велика наша Родина и, сколько по ней ни броди, все будешь находить что-нибудь новое, интересное…».

Сергей Довлатов родился в эвакуации и умер в эмиграции. Как писатель он сложился в Ленинграде, но успех к нему пришел в Америке, где он жил с 1979 года. Его художественная мысль при видимой парадоксальности, обоснованной жизненным опытом, проста и благородна: рассказать, как странно живут люди — то печально смеясь, то смешно печалясь. В его книгах нет праведников, потому что нет в них и злодеев. Писатель знает: и рай, и ад — внутри нас самих. Верил Довлатов в одно — в «улыбку разума». Эта достойная, сдержанная позиция принесла Сергею Довлатову в конце второго тысячелетия повсеместную известность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
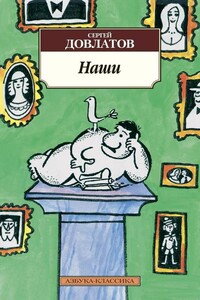
Двенадцать глав «Наших» создавались Довлатовым в начале 1980-х годов как самостоятельные рассказы. Герои — реальные люди, отсюда и один из вариантов названия будущей книги — «Семейный альбом», в которой звучит «негромкая музыка здравого смысла» (И. Бродский), помогающая нам сохранять достоинство в самых невероятных жизненных ситуациях.

«Надо уезжать – но куда? Надо оставаться – но где найти место?» Мировые катаклизмы последних лет сформировали у многих из нас чувство реальной и трансцендентальной бездомности и заставили переосмыслить наше отношение к пространству и географии. Книга Станислава Снытко «История прозы в описаниях Земли» – художественное исследование новых временных и пространственных условий, хроника изоляции и одновременно попытка приоткрыть дверь в замкнутое сознание. Пристанищем одиночки, утратившего чувство дома, здесь становятся литература и история: он странствует через кроличьи норы в самой их ткани и примеряет на себя самый разный опыт.

МГНОВЕННЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР THE SATURDAY TIMES. ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ ФРЕДРИКА БАКМАНА. Иногда, чтобы выбраться из дебрей, нужно в них зайти. Айзек стоит на мосту в одиночестве. Он сломлен, разбит и не знает, как ему жить дальше. От отчаяния он кричит куда-то вниз, в реку. А потом вдруг слышит ответ. Крик – возможно, даже более отчаянный, чем его собственный. Айзек следует за звуком в лес. И то, что он там находит, меняет все. Эта история может показаться вам знакомой. Потерянный человек и нежданный гость, который станет его другом, но не сможет остаться навсегда.

Таня живет в маленьком городе в Николаевской области. Дома неуютно, несмотря на любимых питомцев – тараканов, старые обиды и сумасшедшую кошку. В гостиной висят снимки папиной печени. На кухне плачет некрасивая женщина – ее мать. Таня – канатоходец, балансирует между оливье с вареной колбасой и готическими соборами викторианской Англии. Она снимает сериал о собственной жизни и тщательно подбирает декорации. На аниме-фестивале Таня знакомится с Морганом. Впервые жить ей становится интереснее, чем мечтать. Они оба пишут фанфики и однажды создают свою ролевую игру.

«Холмы, освещенные солнцем» — первая книга повестей и рассказов ленинградского прозаика Олега Базунова. Посвященная нашим современникам, книга эта затрагивает острые морально-нравственные проблемы.
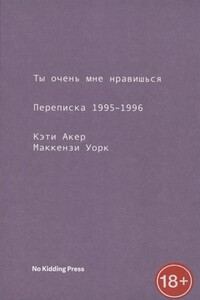
Кэти Акер и Маккензи Уорк встретились в 1995 году во время тура Акер по Австралии. Между ними завязался мимолетный роман, а затем — двухнедельная возбужденная переписка. В их имейлах — отблески прозрений, слухов, секса и размышлений о культуре. Они пишут в исступлении, несколько раз в день. Их письма встречаются где-то на линии перемены даты, сами становясь объектом анализа. Итог этих писем — каталог того, как два неординарных писателя соблазняют друг друга сквозь 7500 миль авиапространства, втягивая в дело Альфреда Хичкока, плюшевых зверей, Жоржа Батая, Элвиса Пресли, феноменологию, марксизм, «Секретные материалы», психоанализ и «Книгу Перемен». Их переписка — это «Пир» Платона для XXI века, написанный для квир-персон, нердов и книжных гиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.