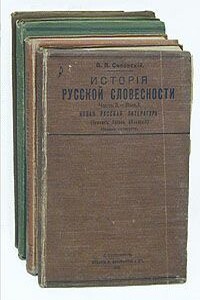Русская литература в оценках, суждениях, спорах - [3]
Исторически меняющиеся или корректирующиеся интерпретации, как правило, интересны и сами по себе, но более важны для уяснения того факта, что и наше сегодняшнее восприятие литературного произведения может быть весьма относительным, а это значит, что произведение мало «знать», над ним надо думать и думать.
Возможно, читатель уже задает себе и мне вопрос: интерпретации интерпретациями, полемика полемикой, а кто же из спорящих все-таки прав? Вопрос законный, но вот ставить и тем более решать его следует с большой осторожностью, потому что в критике и литературоведении нередко бывает, что «правы и те, и другие», или что «никто до конца не прав». Чуть раньше мы видели это на примере лермонтовского «Паруса»; есть и множество других примеров, когда однозначная интерпретация невозможна. По-своему правы, скажем, и те, кто видит в «Бесах» Достоевского политическую проблематику, и те, кто акцентирует проблематику философскую. Трактовка пушкинской Татьяны и Белинским, и Достоевским недостаточно верна, несколько односторонна. Ленинское понимание творчества Толстого как «зеркала русской революции» в определенном отношении верно, но явно недостаточно для объяснения всех сторон творчества великого писателя. Примеров подобной «неполноценной» интерпретации можно привести еще немало;
Конечно, сказанное не означает, что художественное произведение можно интерпретировать как угодно, не считаясь с его объективным смыслом, который все-таки содержится в художественном создании. «Понимать по-своему не грех, – писал по этому поводу Чехов, – но понимать надо так, чтобы автор не был б обиде». В практике интерпретирования нередки и такие случаи, когда интерпретатор прямо нарушает авторскую художественную волю. Вот как, например, «видел» Вс. Мейерхольд образ Пимена из пушкинского «Бориса Годунова»: «Пимен – рыжий монах средних лет, худой, изможденный лихорадочной страстью к писанию истории; он весь в болячках и нарывах, на нем не ряса, а какое-то рубище, подпоясанное вервием; Пимен торопится, задыхаясь, он поднимается по лестнице в свою келью; теряя на ходу листы пергамента и подбирая их, он скороговоркой бормочет: “Еще одно последнее сказанье, и летопись окончена моя”». Решительно ни одна черта здесь не принадлежит пушкинскому Пимену, все «с точностью до наоборот». Разумеется, интерпретации такого типа выходят за круг дозволенного, они некорректны, хотя иногда и поучительны в своем роде, так как показывают, какие атаки направлялись и направляются на классическую русскую культуру.
Однако сейчас нам важно подчеркнуть другое, а именно то, что вокруг смысла художественного произведения возможна полемика, что может существовать не одна корректная, допустимая интерпретация, а несколько. Почему я делаю акцент именно на этой особенности литературной критики? Прежде всего потому, что именно этого свободного и раскованного отношения к литературе в большинстве случаев недостает у школьников, студентов, учителей, преподавателей. Слишком долго вся система преподавания литературы строилась на том, что возможно только одно толкование произведения, а все остальные ошибочны. В соответствии с этим принципом отбирался и литературно-критический материал: по Пушкину – статьи Белинского (отсутствуют даже Гоголь и Достоевский), по Островскому– статья Добролюбова (Писарева нет), по Тургеневу – статьи Писарева (нет даже Антоновича, не говоря уж, например, о Каткове). Представляется принципиальным для преподавания литературы провести мысль о множественности корректных интерпретаций произведения, что должно стимулировать и собственную активность учащегося в этом направлении. Литература при этом будет выглядеть не окаменелостью, а живым делом, требующим и живого восприятия, и споров, и раскованности, и самостоятельного мышления, и даже ошибок – потому что литература не арифметика, в ней ошибка, добытая собственным опытом, нередко стоит дороже, чем правильный, но не пережитый личностно ответ. О литературном произведении можно и нужно спорить – на утверждение этой мысли и направлена хрестоматия.
А. Б. Есин
Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»
Пьеса Грибоедова была значительным событием в литературной жизни начала 20-х тт. XIX в. и продолжала сохранять популярность впоследствии.
Письмо Грибоедова П.А. Катенину раскрывает авторский замысел пьесы и ее основную идею: противопоставление ума Чацкого «25 глупцам#.
Отзыв А.С. Пушкина о комедии представляет собой сжатое и точное определение основных сторон пьесы: ее содержания («характеры и резкая картина нравов»), особенностей развития сюжета, отдельных типов, художественной речи и т. п. Чрезвычайно оригинален отзыв Пушкина об уме Чацкого и в связи с этим – постановка и решение центральной проблемы комедии – проблемы ума.
Статья И.А. Гончарова «Мильон терзаний» считается классическим и наиболее полным разбором комедии Грибоедова. В ней надо обратить внимание на характеристики действующих лиц, на анализ психологических мотивировок развития действия, а главное – на разбор характера Чацкого и его исторической роли: быть провозвестником нового и обличителем старого в «борьбе понятий, смене поколений». Интересным в этом отношении является постоянное сравнение героя Грибоедова с Онегиным и Печориным в пользу Чацкого, а также трактовка Гончаровым проблемы ума применительно к Чацкому.
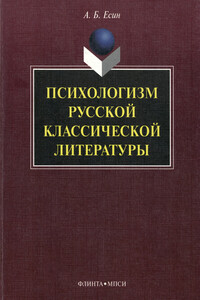
Книга известного литературоведа и культуролога, вышедшая впервые в 1988 году и ставшая уже малодоступной, давно пользуется заслуженным интересом читателей. Издание по-прежнему остается наиболее авторитетным исследованием литературного психологизма. Автор рассматривает вопрос о психологизме художественной литературы (прозы) как о высокой ступени ее развития. В русской литературе ученый находит психологизм в его развитом виде, начиная с прозы Лермонтова; далее в книге рассматривается накопление новых и новых приобретений в раскрытии тайн человеческой души (творчество Тургенева, Чернышевского, Л.
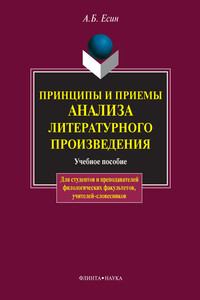
Данная книга – первое систематическое учебное пособие по спецкурсу, которое может использоваться и в курсах «Введение в литературоведение», «Теория литературы». Цель пособия – научить грамотно анализировать как произведение в целом, так и отдельные его стороны: тематику, проблематику, идейный мир, художественную речь, сюжет, композицию и др. Содержит основы методологии и систему методических приемов работы с произведением, конкретные примеры анализа, в основном произведений русской классики. Материалы для самостоятельной работы (контрольные вопросы, упражнения и т. д.) нацелены на практическое усвоение курса.Для студентов и преподавателей филологических факультетов вузов, учителей-словесников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.