Романтичный наш император - [51]
— Простите, Бога ради. Скользко здесь, — глухо проговорил, ухватившись за его локоть, драгунский капитан, и Владимир Михайлович не успел удивиться словам, влажному, как у испуганной лошади, взгляду, почувствовав, что повисший на нем человек всовывает что-то в руку. Сжав пальцы, он сквозь перчатку ощутил уголок сложенной бумажки, хотел остановить драгуна, спросить, — но тот неожиданно легко и стремительно метнулся вперед, в круговерть экипажей. Две серые тени скользнули за ним так быстро, что Яшвили, мгновение спустя, не был уверен, что видел их в самом деле, — но читать всунутую ему записку здесь же, в свете фонаря, не стал, а положил в карман.
Дома, развернув четвертушку бумаги, он понял, что осторожность встречи не зряшная, следить за драгунским капитаном могли, должны были. В записке оказалось всего три слова: «Ты спишь, Брут».
Взяв с каминной полки нагарные щипцы, Владимир Михайлович, прихватив записку за уголок, сжег в пламени свечи, стряхнул за решетку пепел с крошечным белым клочком. Напыщенная глупость, подумалось ему.
Толкнув кочергой поленья, он подсунул щепы, зажег. Придвинув кресло, уставил в решетку подошвы сапог, головой откинувшись на середину спинки. В комнате было тепло от печи, но почувствовать себя согревшимся можно только у открытого огня, тепло которого бодрит, не обволакивает дремой.
Щуря глаза на пламя, неровными, осторожными язычками сновавшее меж поленьев, он пытался вспомнить, как началось все. В корпусе, когда надо было влюбленными глазами смотреть на портрет брюзгливой женщины с двойным подбородком, такой непохожей на маму, тетю Русудан, чьих рук прикосновения не мог он забыть?
Или в первые годы службы, поняв, что не может никогда научиться унимать гневную дрожь в руках, выслушивая барственно выговариваемые приказы, не смог он стать тем, кем положено было, — верным государыне и отечеству офицером? Или — шведской войной, когда, бережно обвязывая поутру тряпицей обмороженные пальцы, прежде чем надеть сапоги, перестал мечтать о том, как, взобравшись первым на гребень крепостной стены, взметнет над головой шпагу?
Помнилось точно одно: когда Павел Петрович стал государем, трудно было ждать чего-нибудь, кроме добра. Мнилось, даже французские идеи новому императору не чужды, а впрочем, много ли дивного, коли ходили темные слухи про связь его со шлиссельбургским узником Новиковым да и с Баженовым, чьи друзья живали во Франции подолгу.
Пламя в камине поднялось ровной стеной, Яшвили отодвинул ноги, подошвы сапог слегка дымились.
Екатерининский век мнился почти вечен, мечтать о переменах было — что головой в стенку биться. В первое десятилетие царствования вместились заговоры, толки о свободе над вольнолюбивыми брошюрками. Бунтом — кончилось. Иные читали, украдкой, провезенные через рубеж книжки Кастера, Рюльера; Грузинов потом про это сказал хорошо: кукиш в кармане показать. Так и выходило: прочитав, радовались втихомолку, пересказывали близким друзьям шепотом, под большим секретом. И вот — будто в глухой тишине снова пустили часы, вернулось Время. В считанные недели свершилось, о чем не мечтали; иные свободолюбцы, из ходивших с Суворовым на Варшаву, даже хмурились, узнав про разговор императора с Костюшко, хоть с благородством поступка этого никто не спорил. Да и неладно на сердце было у героев польского похода, кроме самых тупоголовых служак, каждому запали в память несколько юнцов, насмерть державших придорожную корчму против целого батальона; обреченные взгляды вслед проходящим колоннам из окон на улицах Львова, Кракова, Варшавы: прокушенная до крови губа девушки у колодца, не пожелавшей ни слова сказать русским офицерам. Помилование конфедератов снимало вину с души. А из Зимнего меж тем следовал указ за указом, выметались прочь фавориты и казнокрады, надеяться можно было, кажется, на все…
Не назовешь день, когда умерла надежда. Еще звали ко двору вчерашних врагов отечества, еще провозглашалось публично, что всякий самому государю может при-несть жалобу на несправедливость; уже разжаловали в рядовые за неловкий шаг на разводе, свистела трость Аракчеева, — но думалось, все поправимо, гатчинского капрала император раскусит и прогонит. Он действительно прогнал. И призвал снова.
Яшвили поднялся легко, потянулся, закидывая руки за голову. Брутом становиться нет нужды, мало ли в Петербурге людей, у которых Павел отнял надежду? Или только французам дано собрания национальные собирать?
…Этим же вечером, перебрав в уме всех, вокруг кого могли бы сплотиться недовольные, он остановился на одном имени. Сын полководца, никогда не клонившего шеи перед Екатериной, племянник канцлера, готовившего проект конституции, — Никита Петрович Панин.
Наутро Владимир Михайлович, велев денщику почистить мундир и достав из коробки лучшие перчатки, поехал на Садовую. Был он в себе до того этим часом уверен, что недоуменно уставился на затянутого в ливрею лакея, которому пришлось трижды повторить:
— Его превосходительство не принимают.
Лишь много позже, мимолетно, вспомнит Яшвили о встреченном у театра драгунском капитане, не подозревая, что тот сидит уже в секретной камере Петропавловской крепости. Соглядатаи, шедшие в тот вечер за ним, призваны были, на свой страх и риск, князем Мещерским, приметившим встречу приезжего с двумя офицерами столичного гарнизона, давно бывшими у него на подозрении.
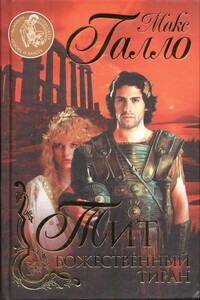
Тит Божественный — под таким именем он вошел в историю. Кто был этот человек, считавший себя Богом? Он построил Колизей, но разрушил Иерусалим. Был гонителем иудеев, но полюбил прекрасную еврейку Беренику. При его правлении одни римляне строили водопроводы, а другие проливали кровь мужчин и насиловали женщин. Современники называли Тита «любовью и утешением человеческого рода», потомки — «вторым Нероном». Он правил Римом всего три года, но оставил о себе память на века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть о четырнадцатилетнем Василии Зуеве, который в середине XVIII века возглавил самостоятельный отряд, прошел по Оби через тундру к Ледовитому океану, изучил жизнь обитающих там народностей, описал эти места, исправил отдельные неточности географической карты.

«Кто любит меня, за мной!» – с этим кличем она первой бросалась в бой. За ней шли, ей верили, ее боготворили самые отчаянные рубаки, не боявшиеся ни бога, ни черта. О ее подвигах слагали легенды. Ее причислили к лику святых и величают Спасительницей Франции. Ее представляют героиней без страха и упрека…На страницах этого романа предстает совсем другая Жанна д’Арк – не обезличенная бесполая святая церковных Житий и не бронзовый памятник, не ведающий ужаса и сомнений, а живая, смертная, совсем юная девушка, которая отчаянно боялась крови и боли, но, преодолевая страх, повела в бой тысячи мужчин.
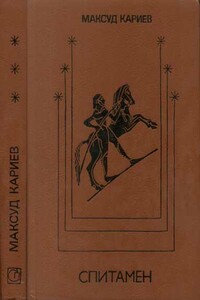
В историческом романе видного узбекского писателя Максуда Кариева «Спитамен» повествуется о событиях многовековой давности, происходивших на земле Согдианы (территории, расположенной между реками Амударьей и Сырдарьей) в IV–III вв. до н. э. С первого дня вторжения войск Александра Македонского в среднюю Азию поднимается широкая волна народного сопротивления захватчикам. Читатель станет соучастником давних событий и узнает о сложной и полной драматизма судьбе талантливого полководца Спитамена, возглавившего народное восстание и в сражении при реке Политимете (Зеравшане) сумевшего нанести первое серьезное поражение Александру Македонскому, считавшемуся до этого непобедимым.