Роман-воспоминание - [8]
Передо мной стоял сероглазый русоволосый парень. Под стареньким вытертым пиджаком на косоворотку был надет пионерский галстук. Звали его Коля.
– Родные твои, отец-мать, где работают?
Я назвал учреждение, где работал отец.
– Там ты и должен поступать. Мы сюда принимаем только своих – фабричных.
– Там нет отряда.
– Организуйтесь. Соберитесь, пойдите в комсомольскую ячейку, проявляйте инициативу, создайте свой отряд. Чего стоишь?
– Куда я пойду? Служба отца у Красных ворот.
– А живешь где?
– На Арбате.
– Близко от нас… Завтра праздник, к утру мы должны клуб украсить. Останешься?
– Конечно.
– Становись в шеренгу.
Я пробыл в клубе до двенадцати ночи, мы рисовали и развешивали плакаты, лозунги, таскали столы и скамейки. У меня мелькнула мысль – позвонить маме, предупредить ее, что приду поздно, но сдержало опасение прослыть «маменькиным сынком», я понимал, что меня испытывают на самостоятельность – а ну покажи, каков ты есть… К ужасу мамы я явился домой за полночь.
Так я стал пионером. Во дворе и в школе косились на мой красный галстук, девочки ехидно спрашивали:
– Толя, ты что, в партию записался?
– Вот именно, в партию.
В отряд я ходил каждый вечер: собирали беспризорных в детприемники, пожертвования в пользу голодающих Поволжья, выступали в «Живой газете», высмеивали пьянство, ругань, неуважение к женщине, неуважение к другим народам.
На один слет в Хамовниках в большой актовый зал какого-то института к нам приехал Бухарин. Выступал, рассказывал о положении в стране, о том, чего добивается советская власть, о задачах молодежи, говорил просто, иногда даже весело и смешно, мы его избрали почетным пионером, надели красный галстук. В этом галстуке он шел с нами после слета по Большой Царицынской, посередине улицы, без охраны, невысокий, плотный, широкоплечий человек с бородкой и веселыми голубыми глазами, «любимец партии» – так называл его Ленин. Дошел до Зубовской площади, попрощался, я стоял рядом с ним, он хлопнул меня по плечу и сказал: «Давайте, ребята, помогайте Революции!» – и сел в поджидавшую его машину. Мы были преисполнены гордости и восхищения – вот какое значение придает нам страна.
В этом состоянии я пришел домой. И, войдя в коридор, услышал шум в родительской комнате, отец раздраженно выговаривал матери:
– Сколько раз нужно повторять?! Клади на место! Мне надоел этот сумасшедший дом!
Я вошел в комнату, отец уставился на меня. Громко, чтобы он слышал, я спросил:
– Почему ты кричишь на маму?
– Что, что?
– Я спрашиваю, почему ты кричишь на маму?
Он стукнул кулаком по спинке стула:
– Как ты смеешь вмешиваться в наши дела?
– Не позволю кричать на маму!
Я думал, он бросится на меня. Но он вдруг всхлипнул и закрыл лицо руками:
– Хороший сын, хорошие дети…
Это было неожиданно. Я никогда не видел отца плачущим. Отец есть отец. Жалость шевельнулась во мне… Отец отнял руки от лица, глаза были злые, сухие.
– Иди, иди в свою ячейку, в свой райком, пожалуйся на отца.
То, что шевельнулось во мне, погасло.
– Я никому не собираюсь жаловаться, но обижать маму не позволю. Запомни это!
И вышел из комнаты.
Несколько дней я не видел отца. Потом неожиданно вечером он сказал:
– Мне нужно поговорить с тобой.
Я отложил книгу, которую читал, поднял на него глаза.
Отец облокотился о крышку рояля.
– Я никогда ничего плохого вам о матери не говорил, ни тебе, ни Рае, не хотел вмешивать вас в наши отношения. Теперь ты вмешался сам. Так вот: ты должен знать – в нашем разладе виновата ваша мать. Она никогда не понимала моих стремлений, моих интересов, ей безразлична моя работа, ей нужна только моя зарплата. Она оттолкнула от дома моих сослуживцев, потому что ревновала к их женам, к каждой юбке ревновала. И вас настроила против отца…
Все, что он говорит, – неправда, я это хорошо знал.
И я сказал:
– Если люди не могут жить вместе, они должны разойтись.
Через месяц отец уехал работать на Ефремовский завод синтетического каучука.
В моей памяти мать сохранилась такой, какой была она в старости. Небольшая, полноватая, красивая, с густыми всегда хорошо уложенными седыми волосами, карими живыми глазами. Моя тетка, ее младшая сестра, говорила, что мама была хохотушкой и самой остроумной в их семье. Но в моей памяти осталось щемящее ощущение ее печали, незащищенности перед жизнью. Она была мягкой, деликатной, ни с кем не ссорилась, не спорила, старалась казаться веселой, никогда не жаловалась на отца, не хотела разлада в доме. Запомнились ее грустные песни: «Выстрел раздался, и чайка упала, издавши последний отчаянный крик…», «Помнишь ли день, как, больной и голодный, я унывал, выбивался из сил? В комнате нашей, пустой и холодной, пар от дыханья волнами ходил»… У мамы был хороший голос, ее приглашали петь на радио, нам с сестрой очень нравилась эта идея, но отец не разрешил.
Почему не помню ее молодой? Помню отца молодым, сестру девочкой, а вот мать только старой. Возможно, мы помним своих матерей такими, какими они были перед смертью? Или я сохранил ее в памяти такой, какой увидел после долгих лет разлуки, после тюрьмы, ссылки, скитаний по России, после войны, после возвращения, она была тогда уже седая, немолодая.
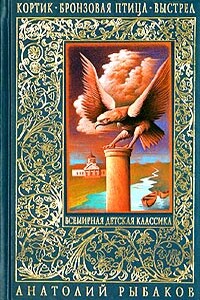
Герои Анатолия Рыбакова – обычные московские школьники. Наблюдательность и любопытство арбатских мальчишек Миши, Генки и Славки не дают им скучать, они предпочитают жизнь насыщенную и беспокойную. Загадка старинного кортика увлекает ребят в приключения, полные таинственных событий и опасностей.
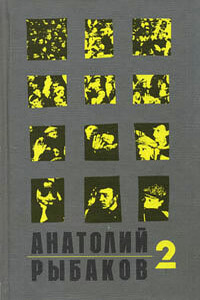
Трилогия «Дети Арбата» повествует о горькой странице истории России – о том времени, которое называют «периодом культа личности». В романе «Страх» (вторая книга трилогии) продолжается рассказ о судьбах «детей Арбата» – Саши, Вари, Лены, Нины.
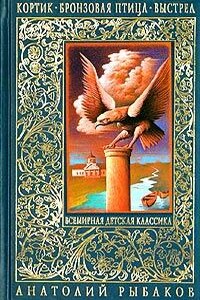
Герои Анатолия Рыбакова – обычные московские школьники. Наблюдательность и любопытство арбатских мальчишек Миши, Генки и Славки не дают им скучать, они предпочитают жизнь насыщенную и беспокойную. Загадка старинного кортика увлекает ребят в приключения, полные таинственных событий и опасностей.
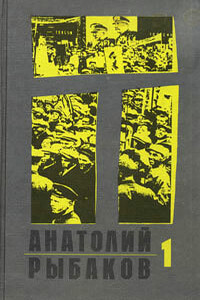
Время действия романа А.Рыбакова «Дети Арбата» – 1934 год. Автор вводит читателей то в кремлевские кабинеты, то в атмосферу коммунальных квартир, то в институтские аудитории или тюремную камеру; знакомит с жизнью и бытом сибирской деревни.Герои романа – простые юноши и девушки с московского Арбата и люди высшего эшелона власти – Сталин и его окружение, рабочие и руководители научных учреждений и крупных строек.Об их духовном мире, характерах и жизненной позиции, о времени, оказавшем громадное влияние на человеческие судьбы, рассказывает этот роман.
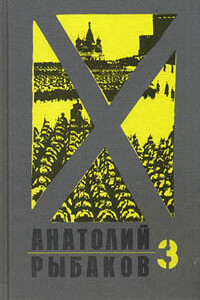
Трилогия «Дети Арбата» повествует о горькой странице истории России – о том времени, которое называют «периодом культа личности». Роман «Прах и пепел» (третья книга трилогии) завершает рассказ о судьбах героев книг «Дети Арбата» и «Страх».

Широко известная детективная повесть, третья часть популярной детской трилогии ("Кортик", "Бронзовая птица" и "Выстрел") Анатолия Рыбакова, в которой арбатский парень Миша Поляков и его друзья помогают раскрыть таинственное убийство инженера Зимина.

В первой части книги «Дедюхино» рассказывается о жителях Никольщины, одного из районов исчезнувшего в середине XX века рабочего поселка. Адресована широкому кругу читателей.

В последние годы почти все публикации, посвященные Максиму Горькому, касаются политических аспектов его биографии. Некоторые решения, принятые писателем в последние годы его жизни: поддержка сталинской культурной политики или оправдание лагерей, которые он считал местом исправления для преступников, – радикальным образом повлияли на оценку его творчества. Для того чтобы понять причины неоднозначных решений, принятых писателем в конце жизни, необходимо еще раз рассмотреть его политическую биографию – от первых революционных кружков и участия в революции 1905 года до создания Каприйской школы.

Книга «Школа штурмующих небо» — это документальный очерк о пятидесятилетнем пути Ейского военного училища. Ее страницы прежде всего посвящены младшему поколению воинов-авиаторов и всем тем, кто любит небо. В ней рассказывается о том, как военные летные кадры совершенствуют свое мастерство, готовятся с достоинством и честью защищать любимую Родину, завоевания Великого Октября.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.