Реубени, князь Иудейский - [3]
Ходят слухи, что он читает светские книги на латинском языке. В точности никто этого не знает, но уже одних слухов достаточно для матери Давида. Как испуганно завопила она, когда увидела, что Голодный Учитель прохаживается перед ее домом вместе с ее единственным ребенком. Дело в том, что если уж Гиршль начинает говорить — то говорит без конца. Когда Давид приходит к нему, он идет потом провожать его до дому и все время не перестает говорить. Впрочем, так было только в первое время этой странной дружбы, завязавшейся между пятидесятилетним человеком и рано созревшим десятилетним мальчиком. После истории с матерью Давид лишь тайком пробирался к Голодному Учителю.
Мальчик изобрел способ искусственно вызывать кровотечение из носу. Это — его первая ложь. Дрожа и краснея, он преподносит ее. Но зато велика и награда. Ему разрешают уйти из школы еще днем, сейчас же после обеда, который варит жена его учителя. И тогда он может до вечера сидеть в комнате у Гиршля. Это — маленькая грязная комната, неуютная и какая-то незащищенная, потому что она расположена у самой стены, отделяющей еврейский квартал от запретной христианской улицы старого города. За стеной виден портал церкви. О, какое это жуткое зрелище! Мальчик любит заглядывать в таинственные темные впадины между статуями, в которых иногда вздрагивает резкий свет, словно от множества субботних свечей.
У Давида очень часто теперь приключается кровотечение из носа. Ему стыдно, он презирает себя, но не может устоять.
— Где ты пропадал столько времени? — встречает его Гиршль, который немедленно бросает своих учеников, громко читающих по складам, и запирает за собой дверь, ведущую в комнату, где происходит ученье. — Уже четыре дня, как ты пропадаешь бог знает где.
— Всего лишь три дня, — жалобно возражает ребенок.
— А тем временем старшина снова отклонил мое ходатайство. Большая школа получает дрова от общины, а я ничего не получаю. Ровно ничего. Хоть замерзни в эту жестокую зиму. Но, погоди, я когда-нибудь выступлю и разоблачу все злоупотребления. Разумеется, все двадцать семь старост голосовали как стадо баранов, и даже твой великий отец, этот безупречный ученый, покривил душой в деле бедняка.
«Не лучше ли мне уйти отсюда? — думает мальчик. — Нехорошее говорят здесь».
Но маленький прихрамывающий человек не выпускает своей добычи. Он схватил Давида за воротник и втиснул его в кресло. У него голова безумца, с вьющимися поседевшими черными волосами. Один глаз побольше, другой поменьше, и смотрят они пристальным, неподвижным взглядом.
— Как они пыжатся, эти старейшины. Можно подумать, что они не такие люди, как я или ты. Такое же самомнение, такие же страсти, такие же разочарования. Попробуй уколоть их, и они закричат. А потом будут утверждать, что пели великолепнее, чем наш кантор поет в день Всепрощения. Суета сует, говорит мудрец. Моль, летящая на свет. Если можно было слышать, как кричит моль, то раздавался бы великий вопль. Вот так вопят и люди. А назавтра все миновало, как будто никогда и не было. Но сегодня всякий считает свою судьбу столь важной, словно он один существует на свете.
У Давида мелькает мысль: а ведь Голодный Учитель говорит против себя. Но он не прерывает его. Стоит только вставить малейшее замечание, как Гиршль топает ногою и кричит: «Ты душишь мои мысли. Дай мне выговорить!» Давид восхищается этим неистовым человеком и боится его. Но своим детским умом он уже постиг, что маленькими и небрежно брошенными замечаниями Гиршля можно направить в любую сторону. Следует только выжидать, тихонько сидеть и ждать с широко раскрытыми глазами — потому что пока еще Гиршль говорит не о том, что надо. Правда, на молодой ум опьяняюще действуют уже одни его сравнения и его рассуждения, а еще больше — тот пыл, с которым все это выбрасывается наружу, в полном противоречии к спокойному достоинству, к которому Давид привык у отца. Но не ради этих ораторских приемов пришел он сюда. Он выжидает. Спокойно слушает возбужденного человека, которому не перед кем свободно излить накопившуюся годами желчь и который счастлив, что нашел, наконец, слушателя.
— А наш рабби, этот знаменитый человек! — кричит Гиршль. — А чем, спрашивается, он знаменит? Ты знаешь чем?
— Да, вы мне уже часто рассказывали про это.
Но Гиршль не обращает внимания на его ответ.
Такая уж у него особенность, что он постоянно повторяет одни и те же истории, одни и те же остроты. И совершенно не обращает внимания, когда ему говорят, что уже слышали это.
«Он готов говорить со стеной, — думает ребенок. — А разве я для него больше значу, чем стена?» И хотя он еще не в состоянии разобраться в этом ощущении, но все же он чувствует, как тягостно и непристойно такое унижение слушателя, которое позволяет себе его слишком говорливый собеседник.
— Наш рабби Исаак Марголиот известен как сын великого Якова Марголиота из Нюрнберга. А почему считался тот, да будет благословенна его память, великим во Израиле, столпом изгнания? Потому что он однажды получил письмо от Рейхлина. Рейхлин просил его прислать ему каббалистические сочинения, а старик отказался, на том основании, что нехорошо глазу смотреть на яркое сияющее солнце. По-моему, это грубость. Но тем не менее, наш рабби сын знаменитого отца — правильнее бы сказать, сын знаменитого письма.
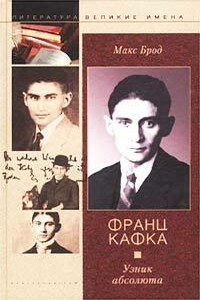
М.Брод, биограф и друг Франца Кафки, ярко и всеобъемлюще воссоздал трудный жизненный путь автора всемирно известных «Замка», «Процесса», «Америки». Комплексы нервного ребенка, завидовавшего своему отцу, мучительные раздумья о судьбе соотечественников на перекрестке еврейской, немецкой и славянской культур некогда могучей имперской Австрии, подробности частной жизни литературного гения, портреты кумиров и противников, связь размышлений литературного гения с теориями Фрейда – эти и многие другие подробности жизни и творчества Франца Кафки нашли отражение в многогранном труде Макса Брода.

В 1-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли её первые произведения — повесть «Облик дня», отразившая беспросветное существование трудящихся в буржуазной Польше и высокое мужество, проявляемое рабочими в борьбе против эксплуатации, и роман «Родина», рассказывающий историю жизни батрака Кржисяка, жизни, в которой всё подавлено борьбой с голодом и холодом, бесправным трудом на помещика.Содержание:Е. Усиевич. Ванда Василевская. (Критико-биографический очерк).Облик дня. (Повесть).Родина. (Роман).

В 7 том вошли два романа: «Неоконченный портрет» — о жизни и деятельности тридцать второго президента США Франклина Д. Рузвельта и «Нюрнбергские призраки», рассказывающий о главарях фашистской Германии, пытающихся сохранить остатки партийного аппарата нацистов в первые месяцы капитуляции…

«Тысячи лет знаменитейшие, малоизвестные и совсем безымянные философы самых разных направлений и школ ломают свои мудрые головы над вечно влекущим вопросом: что есть на земле человек?Одни, добросовестно принимая это двуногое существо за вершину творения, обнаруживают в нем светочь разума, сосуд благородства, средоточие как мелких, будничных, повседневных, так и высших, возвышенных добродетелей, каких не встречается и не может встретиться в обездушенном, бездуховном царстве природы, и с таким утверждением можно было бы согласиться, если бы не оставалось несколько непонятным, из каких мутных источников проистекают бесчеловечные пытки, костры инквизиции, избиения невинных младенцев, истребления целых народов, городов и цивилизаций, ныне погребенных под зыбучими песками безводных пустынь или под запорошенными пеплом обломками собственных башен и стен…».

В чём причины нелюбви к Россиии западноевропейского этносообщества, включающего его продукты в Северной Америке, Австралии и пр? Причём неприятие это отнюдь не началось с СССР – но имеет тысячелетние корни. И дело конечно не в одном, обычном для любого этноса, национализме – к народам, например, Финляндии, Венгрии или прибалтийских государств отношение куда как более терпимое. Может быть дело в несносном (для иных) менталитете российских ( в основе русских) – но, допустим, индусы не столь категоричны.

Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы.

В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.
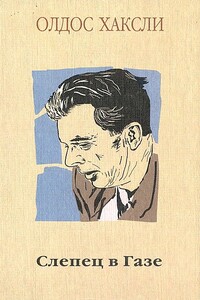
Роман, который многие критики называли и называют «главной книгой Олдоса Хаксли».Холодно, блистательно и безжалостно изложенная история интеллектуала в Англии тридцатых годов прошлого века — трагедия непонимания, нелюбви, неосознанности душевных порывов и духовных прозрений.Человек, не похожий на других, по мнению Хаксли, одинок и унижен, словно поверженный и ослепленный библейский герой Самсон, покорно вращающий мельничные жернова в филистимлянской Газе.Однако Самсону была дарована последняя победа, ценой которой стала его собственная жизнь.Рискнет ли новый «слепец в Газе» повторить его самоубийственный подвиг? И чем обернется его бунт?