Религия - [122]
Недаром лакей Смердяков с таким восторгом здравого смысла понял и принял карамазовское, ницшеанское: „Все позволено“. Все позволено — это еще не значит: все свято, — а лишь все безразлично не свято и не преступно, все безопасно, если только в достаточной мере серединно и благоразумно. Это — не другая человекобожеская „осанна“, а лишь другая, но столь же обыкновенная человеческая, слишком человеческая „пакость“, которою кончаются, по здравому смыслу, все „происшествия“ нашей планеты и нашей истории: вместо закона не свобода, а только разврат и „мошенничество“.
Итак, не две противоположные „осанны“, а лишь два противоположные проклятья: а если даже и две „осанны“, то не соединенные, а смешанные, и потому смешные, оскверненные этим смешением. Когда Черт говорит: „Для меня существуют две правды“, — он лжет последнею и самою кощунственною ложью: нет, для него существуют вовсе не „две правды“, а только две полуправды, то есть две лжи, ибо ложь и есть не что иное, как полу-правда, правда не до конца, не до Бога, одна половина правды, не соединенная с другою половиною. Когда он говорит: „Богочеловек“, и когда говорит: „Человекобог“, — он одинаково лжет, потому что не знает, „есть ли Бог“, не хочет знать Бога, а следовательно, не может знать ни Богочеловека, ни Человекобога, без Бога нет ни Богочеловека, ни Человекобога, как без центра нет ни центростремительной, ни центробежной силы; если бы он признал Бога, то не мог бы не признать, что Богочеловек и Человекобог — уже не два, а одно, с того мгновения, как сказано: „Я и Отец одно“; не мог бы не признать, что совершенная любовь, любовь до конца, до Бога и такая же совершенная свобода („Я хочу вас сделать свободными“) — не два, а одно, и что, следовательно, нельзя противополагать любовь без свободы свободе без любви, как это делает сам он и его предвестник, Великий Инквизитор. Но в том-то и „весь секрет“ Черта, что не хочет он конца; не хочет, чтобы два было одно, а хочет, чтобы два всегда было двумя, и для этого сам притворяется одним из двух, то Отцом против Сына, то Сыном против Отца, не будучи ни тем, ни другим, а лишь отрицанием обоих; притворяется одним из двух полюсов, противоположным и равным другому, тогда как оба полюса уже навеки заключены в двуединстве божеских Лиц, Отчего и Сыновнего; а Дух вечной середины есть только отрицание этой мистической полярности, только „обезьяна“, которая, передразнивая двуединство Божеских Ипостасей, искажает оба Лица, смешивает их и смеется.
Но тут великий и страшный вопрос: откуда он, зачем? „Вначале было Слово, и Слово было у Бога. — Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть“. Ежели „все“, то, значит, и Дьявол? Отрицание Слова в самом Слове? Тут какая-то непостижимая тайна, которую не могли пока одолеть тончайшие силлогизмы догматики; власть дьявола, говорят нам, — не воля, а только „попущение Божье“. Но чем же попущение разнится от воли? Попущение есть воля до времени, воля условная; но как же допустить условное в Безусловном, в Боге? Опять разум немеет. Он знает одно: если бы не было двух концов, то не было бы и середины между ними; если бы не было „Слово у Бога“, двуединства в самом Боге, то не было бы и раздвоения в мире. Мира не было, мир есть, мира не будет; дьявола не было, дьявол есть — значит, и дьявола не будет? — Это вопрос Оригена, гностиков и нашего нового, тоже, в известном смысле, гностического, то есть знающего, сознательного, но уже не частного, а вселенского, и, следовательно, все-таки воистину православного христианства: будет ли Дьявол прощен Богом? Воскликнет ли и он: „Осанна“? Тут наш, последний, святой ужас и молчание, мы можем только вечно приближаться к этой тайне, окончательно же она откроется нам лишь во Втором Пришествии.
Понял ли все это Иван?
Едва ли. „Он не сатана, это он лжет, — говорит Иван, вспоминая свой бред или свое видение. — Он самозванец. Он просто черт, дрянной, мелкий черт“. Признать в таком „лакее“ единственного и настоящего Дьявола своего, того самого, о котором Великий Инквизитор говорит: „мы с ним“, — Ивану не позволяет гордость, и он утешает себя тем, что есть будто бы кроме этого, „дрянного, мелкого черта“, другой, настоящий, „великий и страшный дух небытия“, херувим „с опаленными крыльями“, „гремящий и блистающий“, противоположный и, может быть, равный Богу. Понимает ли, по крайней мере, сам Достоевский, что другого черта вовсе нет, что это подлинный, единственный Сатана, и что в нем постигнута последняя сущность нуменального „зла“, поскольку видимо оно с нашей планеты, категориям нашего разума и переживаемому нами историческому мгновению? Кажется, Достоевский это лишь пророчески-смутно почувствовал, но не сознал до конца. Если бы он сознал, то был бы весь наш, а таков, как теперь, он только почти наш, хотя мы и надеемся, что впоследствии, когда он будет совсем понят, то будет и совсем наш. Тут в религиозном сознании Достоевского какая-то крошечная, но совершенно черная и неподвижная точка, в которую никогда не решался он вглядываться пристально. Может быть, впрочем, в минуты „исступления“ он и видел уже все до конца, даже сознавал все, но никогда всего не высказывал. Начинает и не договаривает, вдруг уклоняется от нашего взора, как будто нарочно путает и путается, прячет концы» свои не только от нас, но и от себя самого. В предсмертном дневнике, давая, по собственному выражению, «формулу» православия: «Русский народ весь в православии; Православие есть Церковь, а Церковь увенчание здания, и уже навеки», — вдруг заключает он в высшей степени загадочно и странно: «Вы думаете, я теперь разъяснять стану: нимало, нисколько. Это все потом и неустанно. А пока лишь ставлю формулу». Но это «потом» так никогда и не наступило для Достоевского; так и ушел он от нас, не разъяснив, что, собственно, разумел под «Церковью» и «Православием», как соединял свою мистическую и, следовательно, сверх-историческую «осанну», прошедшую через горнило таких страшных сомнений, с историческою, только историческою «осанною» русского народа — не вернее ли русского простонародия? А ведь это главное, это даже все! Те разъяснения, которые успел он дать, как, например, в «Бесах» речь Шатова о русском «народе-богоносце», не разъясняют по существу, а скорее еще больше затемняют эту формулу. «Бог, — говорит, между прочим, Шатов, повторяя мысль „учителя“ своего, Ставрогина, — Бог есть синтетическая личность народа». Народов, языков — много, значит, много и народных языческих богов. Но есть один, избранный, русский народ, новый Израиль; и его-то Бог единый, истинный, должен победить всех языческих богов. Тут уж, очевидно, не народ для Бога, а Бог для народа — Бог есть оружие, которым народы сражаются во всемирно-исторической борьбе за первенство. До Христа это идея Израиля, а после уж во всяком случае — идея нехристианства, или, по крайней мере, какого-то объязыченного христианства. «Всякий народ, — говорит Шатов, — до тех пор только и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает без всякого примирения, пока верует, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов». Эту формулу Шатова — Ставрогина мог бы принять Ницше, и, действительно, принимает, даже почти дословно повторяет в своем «Антихристе»: «Народ, — говорит Ницше, — который еще верит в себя, — имеет еще и своего Бога особого („hat auch noch seinen eignen Gott“). В Боге чтит народ свои собственные добродетели. Благодарить себя за себя — вот для чего народу нужен Бог». Другими словами — народ творит своих богов или своего Бога по образу и подобию своему, сам себя обожествляет в своем Боге, так что здесь уже не Бог творит человека, а, наоборот, человек — Бога. Но ведь ежели это так, ежели, действительно, Бог есть только «синтетическое лицо народа», и не более, то вместо формулы: «русский народ весь в православии», получилась бы совершенно обратная формула: «православие все в русском народе»; вместо вывода: «не православный не может быть русским» — совершенно обратный вывод: «не русский не может быть православным». А ведь между этими двумя формулами огромная, пожалуй, большая разница, чем между византийским православием и римским католичеством с точки зрения самого Достоевского. Конечно, он мог бы возразить, что формулу эту, опять-таки столь ницшеанскую до Ницше, дает не он, а Шатов; не слишком ли близко, однако, подходит он к формуле самого Достоевского, и, как будто нарочно, именно в самой скользкой, соблазнительной точке, не извращает ли ее до такой степени, что шатовское русское «православие» оказывается более римским, более католическим, чем само католичество? Неужели Достоевский не предвидел этого камня преткновения, о который могло разбиться вдребезги все его собственное «православие»? А если предвидел, то как же не предостерег нас о такой страшной опасности, не принял мер против этого возможного и слишком вероятного извращения краеугольной религиозной мысли своей? Не успел? Все откладывал, все говорил: «не теперь, потом», и с этим «потом» ушел от нас навеки, так и не разъяснив самого главного: почему и как, несмотря на всю «силу отрицания», которую он «прошел», по собственному выражению, и которая «не снилась олухам», обвинявшим его в отсутствии научно-философской критики — почему и как, несмотря на все свои страшные сомнения («такой силы атеистических выражений и в Европе не было»), все-таки остался он в лоне исторической «православной» церкви?
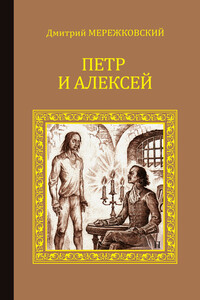
1715 год, Россия. По стране гуляют слухи о конце света и втором пришествии. Наиболее смелые и отчаянные проповедники утверждают, что государь Петр Алексеевич – сам Антихрист. Эта мысль все прочнее и прочнее проникает в сердца и души не только простого люда, но даже ближайшего окружения царя.Так кем же был Петр для России? Великим правителем, глядевшим далеко вперед и сумевшим заставить весь мир уважать свое государство, или великим разрушителем, врагом всего старого, истинного, тупым заморским топором подрубившим родные, исконно русские корни?Противоречивая личность Петра I предстает во всей своей силе и слабости на фоне его сложных взаимоотношений с сыном – царевичем Алексеем.

Трилогия «Христос и Антихрист» занимает в творчестве выдающегося русского писателя, историка и философа Д.С.Мережковского центральное место. В романах, героями которых стали бесспорно значительные исторические личности, автор выражает одну из главных своих идей: вечная борьба Христа и Антихриста обостряется в кульминационные моменты истории. Ареной этой борьбы, как и борьбы христианства и язычества, становятся души главных героев.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
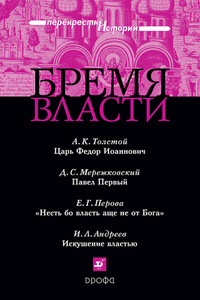
Тема власти – одна из самых животрепещущих и неисчерпаемых в истории России. Слепая любовь к царю-батюшке, обожествление правителя и в то же время непрерывные народные бунты, заговоры, самозванщина – это постоянное соединение несоединимого, волнующее литераторов, историков.В книге «Бремя власти» представлены два драматических периода русской истории: начало Смутного времени (правление Федора Ивановича, его смерть и воцарение Бориса Годунова) и период правления Павла I, его убийство и воцарение сына – Александра I.Авторы исторических эссе «Несть бо власть аще не от Бога» и «Искушение властью» отвечают на важные вопросы: что такое бремя власти? как оно давит на человека? как честно исполнять долг перед народом, получив власть в свои руки?Для широкого круга читателей.В книгу вошли произведения:А.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«… Показать лицо человека, дать заглянуть в душу его – такова цель всякого жизнеописания, „жизни героя“, по Плутарху.Наполеону, в этом смысле, не посчастливилось. Не то чтобы о нем писали мало – напротив, столько, как ни об одном человеке нашего времени. Кажется, уже сорок тысяч книг написано, а сколько еще будет? И нельзя сказать, чтобы без пользы. Мы знаем бесконечно много о войнах его, политике, дипломатии, законодательстве, администрации; об его министрах, маршалах, братьях, сестрах, женах, любовницах и даже кое-что о нем самом.

В Тибетской книге мертвых описана типичная посмертная участь неподготовленного человека, каких среди нас – большинство. Ее цель – помочь нам, объяснить, каким именно образом наши поступки и психические состояния влияют на наше посмертье. Но ценность Тибетской книги мертвых заключается не только в подготовке к смерти. Нет никакой необходимости умирать, чтобы воспользоваться ее советами. Они настолько психологичны и применимы в нашей теперешней жизни, что ими можно и нужно руководствоваться прямо сейчас, не дожидаясь последнего часа.

На основе анализа уникальных средневековых источников известный российский востоковед Александр Игнатенко прослеживает влияние категории Зеркало на становление исламской спекулятивной мысли – философии, теологии, теоретического мистицизма, этики. Эта категория, начавшая формироваться в Коране и хадисах (исламском Предании) и находившаяся в постоянной динамике, стала системообразующей для ислама – определявшей не только то или иное решение конкретных философских и теологических проблем, но и общее направление и конечные результаты эволюции спекулятивной мысли в культуре, в которой действовало табу на изображение живых одухотворенных существ.
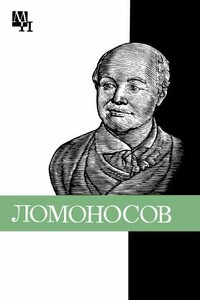
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова (1711—1765), выдающегося русского ученого, естествоиспытателя, основоположника физической химии, философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».Для широкого круга читателей.
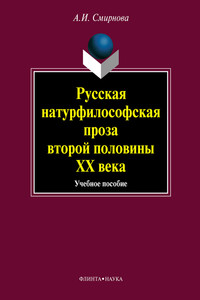
Русская натурфилософская проза представлена в пособии как самостоятельное идейно-эстетическое явление литературного процесса второй половины ХХ века со своими специфическими свойствами, наиболее отчетливо проявившимися в сфере философии природы, мифологии природы и эстетики природы. В основу изучения произведений русской и русскоязычной литературы положен комплексный подход, позволяющий разносторонне раскрыть их художественный смысл.Для студентов, аспирантов и преподавателей филологических факультетов вузов.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.

В монографии раскрыты научные и философские основания ноосферного прорыва России в свое будущее в XXI веке. Позитивная футурология предполагает концепцию ноосферной стратегии развития России, которая позволит ей избежать экологической гибели и позиционировать ноосферную модель избавления человечества от исчезновения в XXI веке. Книга адресована широкому кругу интеллектуальных читателей, небезразличных к судьбам России, человеческого разума и человечества. Основная идейная линия произведения восходит к учению В.И.

В свое книге «Толстой и Достоевский» Мережковский показывает, что эти два писателя «противоположные близнецы» друг друга, и одного нельзя понять без другого, к одному нельзя прийти иначе, как через другого. Язычество Л.Толстого — прямой и единственный путь к христианству Достоевского, который был убежден, что «православие для народа — все», что от судеб церкви зависят и судьбы России. Каждый из них выражает свои убеждения в своих произведениях.