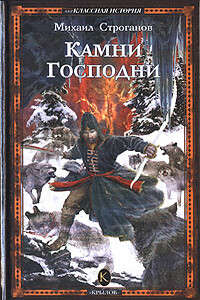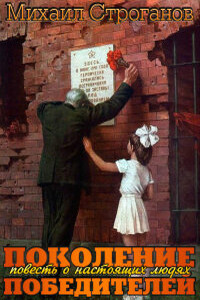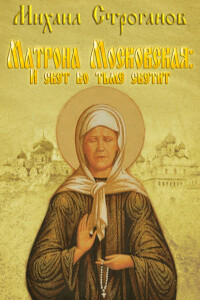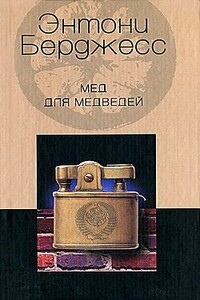Через полчаса отлучавшаяся ночная сиделка уложила писателя, обтерла пересохшие губы, поправила подушки. Пытка, которая могла лишь закончится смертью, продолжилась…
Под утро боль улеглась и он вновь задремал, и увидел себя на холме, разносящим куски хлеба и рыбы собравшимся людям. И Его, проповедующего народу в лучах восходящего солнца.
«Почему не море? — удивленно подумал писатель. — Теперь бы наверняка, пренепременно пошел. И чем сильнее бушевала буря, тем стало бы радостнее.» Но утро на удивление выдалось тихим и ясным, таким, что обветренная кожа лица ощущала трепет стремительно проскользнувшей стрекозы.
«Подойти к Нему? Кинуться к Его ногам и умолять о покое?»
Но взамен покоя, прогоняя видение, явился свет. Пришедший доктор бесцеремонно светил в глаза лампой и, поочередно оттягивая веки, цокал языком, неразборчиво отпуская латинские фразы.
«Я знаю латынь, знаю, добрый человек, о чем ты говоришь, — подумал писатель, но не желая отвечать, лишь простонал. — Все суета… И что было раньше, будет и после нас…»
Только на смертном одре писатель осознал то главное и подобно имени Бога непроизносимое вслух чувство, в котором пребывает человек, терзаемый неизбежной смертью. Его постигает не попавший в передрягу бедолага, а распятый и замученный жизнью, зависший в небытие мученик.
Это чувство он называл «вечным покоем», но не тем, который торжественно поют над усопшим, а выходящей за рамки человеческого ума, точкой опоры всего сущего, на которой зиждутся сами первоосновы бытия. И в этой точке «вечного покоя» он был причастным Тому, о ком писал умиляясь и заблуждаясь, и Кого он в сущности никогда не знал. А вот теперь пребывал с Ним и разделял Его крест.