Реконструкция смысла в анализе интервью - [10]
Обобщение смысла этого фрагмента, данное в сегменте 43–3> призвано укрепить линию рассуждений о сохранении человечности в условиях блокады. Между тем случаев потери человеческого лица не было «у нас», в среде знакомых интеллигентов. Даже конфликты у нас касались большей или меньшей степени милосердия, в любом случае не выходившей за пределы порядочности. Некоторые подробности рассказа позволяют нам считать, что одну из своих задач рассказчик видит в том, чтобы представить слушателю именно интеллигентский взгляд на события.
В качестве подтверждения описываемых событий информант многократно ссылается на свой дневник (13.1.2.1,30.1.1.1,31.2.0.2.1.1,39.1, 39.2, 50–50.1), который он начал вести в специальном блокноте с началом войны. Его записи стали регулярными с наступлением блокады и прекратились летом 1942 года, когда закончился блокнот. Размышляя теперь о своем дневнике, рассказчик объясняет, почему дневник кончился летом 1942-го: не только потому, что кончился блокнот, но и потому еще, что жизнь в тех условиях вошла в привычку, стала «подростковой обычной жизнью» (50.1). Другие ссылки относятся к письмам матери к своей приятельнице, которые стали известны рассказчику через много лет после войны (41.1,41.2).
Эти ссылки и многочисленные замечания, касающиеся характера собственных воспоминаний, свидетельствуют о дистанции, которую выдерживает информант в своем рассказе по отношению к собственному опыту, ныне осмысляемому с позиции человека, прожившего долгую жизнь. Он видел блокаду глазами мальчика, и о переживаниях взрослых он может только предполагать: «(28)…конечно, взрослые переживали много больше, наверно, и для них это было во много раз тяжелее», ср. также в самом начале интервью:
Информант: (3) Финскую войну я помню только как сам факт. Некоторое такое беспокойство, потому что вот война, но и только. Потому что на жизни она как-то не отразилась абсолютно. Вот. Во всяком случае, на моей детской жизни. На счет родителей сказать не могу. Тоже так не ощущалось, что они как-то особенно этим озабочены. У нас в этой войне никто не участвовал.
Подспудно сопоставляя свои воспоминания со стереотипными представлениями о блокаде и общими местами рассказов о ней, он тем самым выделяет свой рассказ как предельно достоверный, содержащий только те подробности, которые остались в памяти мальчика (или для которых есть документальные свидетельства из семейного архива):
Информант: (24) Не могу сказать, чтобы я помнил о муках голода. Я помню себя сидящим, свернувшись калачиком, в каком-то ватнике, и, конечно, там валенки, шапка и все прочее, на кресле около буржуйки, в которой хоть какой-то огонек есть вот. Но вот так чтобы «есть, есть, есть, есть», такого я не помню.
5
Скрытая полемика в рассказах о блокаде: разное понимание героизма
В анализируемом нами интервью информант явно и неявно отталкивается от стереотипов, бытующих как в современной постсоветской публицистике, так и обязанных своему происхождению советскому дискурсу. В значительной мере противопоставляя свой рассказ этим представлениям и рисуя собственную картину блокады и блокадного опыта, информант тем не менее использует стереотипы в качестве опоры для построения рассказа. В высказываемых оценках рассказчик только один раз говорит о «героическом» поведении, то есть опирается на категорию, принадлежащую официальному дискурсу[11]: «(30.0) Ну вот опять-таки мама. Она, конечно… она, конечно, проявляла себя, видимо, героически. В частности, благодаря ней были какие-то продукты».
На наш взгляд, это высказывание является одной из ключевых точек интервью, выражающей мысль, очень важную для информанта и соответственно для интерпретации его рассказа. Тем более интересно рассмотреть подробнее представления о героизме в контексте блокадных интервью и обратить внимание на то, как эти представления проявляются и каковы их возможные источники. Как указывалось выше, в первом разделе, выстраивание парадигм, то есть сравнительных рядов, отвечающих на вопрос «а как вообще об этом говорят?», представляет собой одну из форм анализа массивов интервью.
Советский публицистический дискурс в целом был склонен к оценке поведения советского человека в экстремальных обстоятельствах в терминах героизма, даже если речь шла о повседневности (ср. появившееся, по-видимому, в 1960-е годы выражение «героика будней»), не говоря уже о подвигах военного времени. Ветераны войны, которых судьба сделала причастными к героической эпохе в истории страны, рассматривались в этой перспективе как проводники знаний и моделей поведения, образцовых для подрастающего поколения и потому незаменимых для патриотического воспитания. Восприятие блокады Ленинграда как «героической страницы истории Второй мировой войны» является, пожалуй, наиболее распространенной интерпретацией событий 1941–1944 годов. Эта интерпретация запечатлена в публицистической и художественной литературе, овеществлена в монументах и памятных знаках. В позднесоветское время социальная политика государства строилась с учетом того, был ли человек защитником Ленинграда, а сегодня особый статус имеют и те, кто находился в период блокады в осажденном городе. Таким образом, гражданское население блокированного Ленинграда официально трактуется как проявившее мужество и героизм, а потому достойное воздаяния — символического и материального.
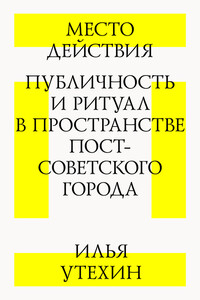
Насколько легко человек прочитывает в городском ландшафте связность его отдельных элементов и воображает себе некую целостную и осмысленную картину места. Что делает такое считывание смысла более удобным и органичным? Что создает для этого предпосылки в организации городской среды?Эссе Утехина представляет собой удавшуюся попытку рефлексии над природой и подвижными границами публичного пространства: «Хотя мы и называем эти места общественными, повсюду в них публичное и приватное не разделены – в том смысле, что и на площади друзья, стоя в кругу, образуют своим разговором и расположением вполне приватную пространственную конфигурацию.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.