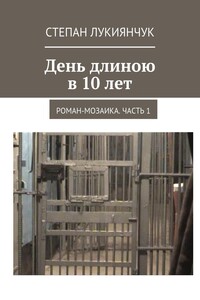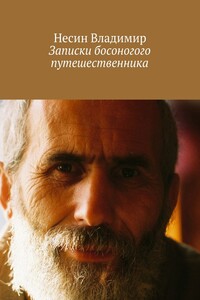(навещали его делегацией несколько раз — свитера, шерстяные носки, книг уже не хотел, — заставали дежурно обколотым, где-то плывущим над нами; спрашивать о стихах никому не взбрело бы: его затирали, рассасывали, воля к жизни была в нем колымско-шаламовской версии), но что делать с предательской гибкостью данного нам языка и какой напечатать декрет, что нам вынуть, иссечь из него, где его подщетинить, с какого угла обокрасть, чем его уневолить, чтоб бездна напевности не увлекала такие вагонища душ? Сколько вы напечатали ваших колсборников — девять? — и на каждом еще два-три личных — таких, изолированных, это не говоря о Гордееве: там у вас в ваших ящиках, думаю, только его инкунабул десяток; впрочем, я не хочу о нем плохо ни разу: он был столп, лучше будет — контрфорс, не дававший пасть этой стене, сложенной из компоста с прибавкою мелких каменьев. Вы и сами, не так ли, повыбросили остальное, не жалея автографов: половину из них все равно не свезло разобрать — скверный старческий почерк, но Гордеева как же покинешь; я и сам не могу распрощаться с тем, что он мне слал до того, как озлобился, и жалею, что нам не пришлось примириться. Но вопрос не снимаю: откуда растет этот неодолимый свербеж и какая беда выбивает у мозга опору, обрекая его на качанье на этих волнах? Графомания есть доброкачественная душевная опухоль, взлепетал Аметист, заступаясь: я понять не могу, что нам горя в ней, в чем неудобство; ведь она не завидует, не превозносится, не бесчинствует, зла не помыслит; все она покрывает, всему она верит, надеется и переносит, и не вы ли в не столь уж и давнем своем манифесте призывали соземцев сомкнуться тесней в том числе вкруг старателей литературы, гнездящихся в нашей округе? Милый юноша, щурился Глодышев, кто ж услышал тогда, кроме вас, приведите ко мне этого человека; эти ваши геронты первейшими ожесточились на мое панибратство: называли же в общем кругу, над столами сгрудившись, земляным червяком? псом злобесным? Не смущайтесь — Виршков разболтал за портвейном, я легко его завербовал, никакой вам нечаевщины и ничтожные самые траты; все-таки мне довлело быть в курсе их шепотов: я бежал провокаций, а на Башне у вас были люди с немалыми навыками — медработники, кадровики и т. п., — и не самый удачный мой выход, который застали и вы, обсуждавшийся там с совершенно клиническою регулярностью, пересказывавшийся для вновь обращенных и обвалянный, это уж точно, в таких сухарях, что неясно, как там не поперхивались, оставлял им возможность маневра, с моей не сравнимую; пан Виршков, бессемейный, безденежный, бестелевизорный (три шкафа теплофизики, полка Стругацких истерханных, «Колокольня» по пятницам, в среду с субботой — «Маяк»; видите, у него получалось) — Виршков имел свойство приврать, это правда, и пытался меня накрутить паче нужного, на ходу возводя вавилоны напраслин, но вранье его распознавалось по первой же ноте. Апология ваша похвальна, пятерка, но ей место не здесь, и, когда бы вы высказались в этом духе пред ними самими или, страшно подумать, в печати, участь этой защиты была бы безрадостна: ваша жалость для них все равно что слеза лаборантки для к закланью назначенной мыши, вы же слишком насквозь их просвечиваете, слишком все понимаете, с вами уже не ужиться. Но считаю, на высших весах таковое заступничество будет вам зачтено, я же буду покаран за неутешительность, за разлитие желчи в народе и общее праздноглаголанье. Возвращаясь же снова к темничнику Саше, скажу: маму, чтобы вы знали и не разносили по городу глупости, наш товарищ — пускай уврачует создатель неправду его — никаким молотком не крушил, но низринул с балкона — их квартира была на девятом, все вдребезги вышло; молоток же забыл в палисаднике первоэтажный жилец, поправлявший увечную изгородь и с Маргеловыми не знававшийся. Предыстория страшно длинна в хронологии, как любая подобная повесть вразвалку, с ленцой подводящего, годы и годы еще, к срыву пломбы семейного, мало себя изъявляющего помешательства, но вполне изложима как в форме анамнеза, так и в обличье лирическом: скажем, взялся бы кто-нибудь из покрываемых вами старейшин обстрогать до двенадцати четверостиший драный сызмальства быт, их военный поселок, Млынск-два, за оглоблей шлагбаума, папу-прапора, маму-раздатчицу, муравьями захвачены кухня, сортир и порою кровать, в девяносто втором из снабжения лишь маргарин; старше вас на семь лет, в школе выглядит чмошником, неистребим папин запах и папина же косолапость, учеба не лезет; все тетради — дешевка, бумага дырявится росчерком «неуд» под самостоятельной — возвратили как должное, без извинений; рвешь ли обувь — шуруешь к надежным соседям, приискать что-нито по размеру в паучьих чужих сундуках; папа водит к знакомому в парковый тир за кленовой линейкой, терпеливо и складно рассказывает, как и что, но стрелок из него все никак не берется, к их общей печали; дальше папа уходит в запас и цирроз, много и плодотворно рыбачит на Долгих озерах, где его и находят однажды привольно лежащим вблизи от снастей: сердце, легкая смерть на природе, о лучшем и не помышляют; обучился на повара, в армии терся на кухне, там же начал кропать, очень патриотически; мать заделалась челноком малой дальности, подвижницею Черкизона, понесла по конторам заколки, помаду, трусы и колготки, упестряя турецким бельишком и бросовою щепетильною мелочью продвигающееся бесцветье; сам же долго, уже отслуживший, не мог применить себя, захребетничал, шлялся по центру, сходя к котлованам Второго Заречья, клацал дома пультом, после взяли вишневую, что ли, шестеру, Алекс начал бомбить, наловчился, ценя независимость, прикупил магнитолу, чехлы, но потом как-то раз, прыти собственной веря излишне, сшибся сразу с двумя на углу возле рынка, небескровно, но больше накладно; так убытки пожрали немногие их миллионы и окрысили маму: сперва чаще причетом, чаще наскоками, позже все партизанщиной и удушающими недомолвками, как умела, клеймила; вместе с тем потянулись долги, у нее состоялся провальный флирт с БАДами, нераспроданные двести пачек пришлось переваривать самостоятельно (думается, остались там и посейчас), сам без прав после стычки, машину ни выстучать, ни на запчасти загнать невозможно, так себе и гниет под дождями; там прибился к какому-то ЧОПу, сидел беззарплатно два месяца на проходной, жрал лапшу растворимую, вел журнал посещений старательным почерком, слушал битый приемник с хоккеем, дома рыхло отбрехивался от попреков, но вину свою знал и себя обелить не пытался; когда вскрылось кидалово в этой охранной шарашке, учредил неуклюжий запой, заплывал снулой рыбиной на Володарского, зависая в дыму спиртовом, там и встретился мне. Был глазами покуда живуч, говорлив от подавленности и охранничью куртку, нашивки споров, со спокойствием в сердце донашивал; о карьере не плакался, больше страдал от распайки с челночною матерью, ни в кого так не веря, как верил в нее: мать была становым мегалитом реальности, бабой каменной, ночью вселенской; он размазывался об нее, день за днем обходя вкруг котлов ее древнего гнева, полусогнут и бесперспективен; пил опасно дешевое, страшно разил заплетавшимся к позднему времени ртом, но, когда наконец предложил, задыхаясь, стихи, ни полсловом не полюбопытствовал о гонораре; мы, конечно, платить бы ему не могли, но в бесплатности этих трудов он был сам убежден изначально. Да, писал малодушно и слогом невышколенным не умел просверкнуть, но освоил себе неживую уловку «кольцо» и вот, видите ли, кольцевал своих легких словесных птенцов, тем и запоминаясь из прочих представленных; дальше снова охранничал или грузил, приблудился на время к отделочникам из Шатуры, но был изгнан за несоответствие, после этого мать вообще перестала держать его за собеседника и задраила люки, ушла в глубину, чем еще подстегнула его ревунов, — Алекс, верю, душил свой ответный прилив, возводил титанически дамбу, был замечен согласно кивавшим в церквях и едва даже не загремел к иеговам, распевным и плавным, о ту пору охотившимся во дворах с рюкзаками доходчивых комиксов об Иисусе, но был выручен мной из их лап, что в конце концов вряд ли расценится как настоящая помощь, — допускаю, что эти сладчайшие, при условии искреннего погружения клиента, все же были поболее наших попов приспособлены не допустить до большого злодейства человека, подобного Алексу, но что толку об этом теперь; дело кончено, мама утрачена, Саша не помнит себя, и, наверное, лучше уже не пытаться напомнить ему. Будьте милостивы в вашем сердце к несчастному, и, возможно, ему будет сколько-то легче потом, по скончании дольнего промежутка. Аметист обещал.