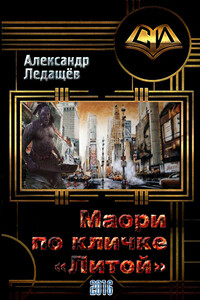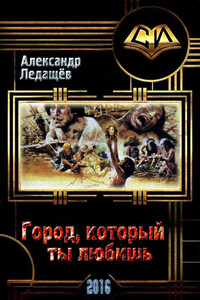Редхард по прозвищу "Враг-с-улыбкой" - [19]
…Он пришел в себя от гула возбужденных, веселых голосов, мужских и женских. Над ним смеялись, подвывали и лаяли от восторга, а он лежал, как он понял, на спине. Открывать глаза он не торопился. Судя по ощущениям, на нем оставалась лишь сорочка, штаны и сапоги, а сам он был растянут на полу наподобие морской звезды — руки и ноги разведены в разные стороны и крепко связаны растянутыми веревками. Чьи-то ледяные руки прошлись по телу, он чувствовал это даже сквозь ткань плотной своей рубахи, пахнуло гнилой кровью и нежный мужской голос произнес: «Как же он хорош! Но что за ерунда у него под рубахой? Не пойму».
— Развяжи мне руки, женовидный, я объясню, — выплюнул Редхард и открыл глаза. Над ним, закрывая обзор, склонилось мужское лицо с сияющими глазами, тонким носом, чувственными губами и соболиными, иначе не назовешь, бровями, выщипанным ровными дугами. Щеки были чуть подрумянены, а лицо — припудрено. Губы сложились для поцелуя и Редхард плюнул в это лицо. Ответом послужила оглушительная оплеуха, а потом — град ударов по ребрам, пока, наконец, кто-то не угомонил красавчика.
Затрещала рубаха, с него содрали ее лохмотья и зал, великолепно отделанный и прекрасно освещенный, огласился смехом и криками: «Корсет!» «Ба, да еще какой, смотрите!»
«Да, ошейник на шее, пояс на талии, обмотаны тончайшей кожей и дивным таирандским шелком!» «А от ошейника к поясу идут гибкие и широкие стальные полосы!» «Так вот откуда такая осаночка, а еще звал Никера «женовидным!»
— Вы не поняли, — проскрипел старушечий голос. Редхард повернул голову в сторону голоса и увидел в толпе разряженных, как на бал, молодых, как на подбор, мужчин и женщин, древнюю, уродливую старуху, с редкими длинными прядями на лысеющей голове, ужасной белесой сыпью по всему лицу и морщинистой шее, с двумя торчащими длинными клыками в синегубом рте, но наряженную при этом, следует сказать, в модное платье с глубочайшим декольте. Мало того! За талию ее нежно обнимал какой-то совсем юный хлыщ лет семнадцати на вид, ослепительной красоты. — Вы не поняли, — повторила старуха, — это не для красоты, хехе… У него сильно поврежден хребет, без этой штуки (она узловатой, не подходившей к ее туалету совершенно, клюкой, ткнула в корсет) он не сможет ни стоять, не привалясь к чему-нибудь, ни долго ходить. А может, и вообще не сможет ходить, сразу не скажешь!
— Снять с него корсет! — запели хором чувственные женские голоса. Свет, казалось вспыхнул еще ярче, Редхард стиснул зубы, понимая, что умрет он, извиваясь перерубленным лопатой червем. Чудные женские ручки легли на застежки корсета и он впился в запястье зубами. Достал! Кровь потекла по его губам и новые удары обрушились на него. Старая ведьма клюкой прижала его голову к полу и корсет, щелкнув застежками, раскрылся, чем-то напоминая скелет кита.
— Режьте привязь! — скомандовал мужской голос. Веревки ослабли. Редхард, превозмогая боль в позвоночнике, перевернулся на живот, оперся на руки, потом встал на четвереньки и неуверенно двинулся к ближайшей колонне. Он должен встать. Пусть смеются. Ноги отказали, и он пополз на руках.
— Далеко ли собрался, красавчик? — участливо спросил женский голос и острый носок туфельки голубой замши ударил его в локоть и Враг тяжело упал лицом в мрамор пола.
— Ба! Куда мы смотрим! Так не смешно! Снимем с него и штаны! — и Редхард, под визги и хохот, остался на полу совершенно обнаженным. Его снова перевернули на спину и какая-то очаровательная ведьмочка склонилась к его животу, а потом повернула к нему лицо и сказала: «Я откушу себе на память твою мужскую гордость, можно? Тебе он больше не понадобится!»
— Мужская гордость, дешевая подстилка, не в этом, — проговорил Редхард, рывком перевернулся на живот и снова пополз. Рев в зале стоял такой, какой он не слышал даже на овации тенору Бинелли в королевском дворце, куда был когда-то приглашен. Его снова и снова роняли на спину, оттоптали пальцы на руках, лицо горело от ударов сапог и ушибов об пол, плевки и удары чередовались меж собой, а он все полз. Кровь лила из прокушенной губы, он уже оставил попытки схватить кого-то за ногу, ему просто надо было доползти до стены. Колонны. Стула, стола, чего угодно, но встать!
Но его отбрасывали ударами ото всего, что могло бы послужить ему опорой и хохотали. Когда он в очередной раз оказался на спине, ведьма, которую он нарек «подстилкой» снова склонилась к нему: «Извини, но я все же его откушу!» — и оскалила два ряда великолепных, острых, как у кошки, жемчужных зубов. Он понял, что она не шутит, кто-то наступил ему на руки, не давая защититься, все. Наигрались, теперь будут убивать.
— Кто смеет уродовать то, что принадлежит мне? — раздался глубокий, бархатный, низкий голос женщины откуда-то, как ему показалось, сверху, — Ругга, ты?
— Я просто пошутила, я пошутила, госпожа Удольфа, простите, это глупая, ненужная шутка, я хотела его напугать, я шутила! — с истерическими нотками в голосе затараторила та, которую назвали Руггой.
— А я не шучу, — голос, волшебный, пухом ложившийся, казалось, прямо на душу, пропел совсем рядом и раздался звон трех подряд оглушительных пощечин. Он открыл глаза и на лицо его упало что-то теплое. Он присмотрелся — с лица Ругги, сидевшей в глубоком реверансе, опустив теперь лицо долу, капала кровь из ссадин от чьих острых ногтей, располосовавших ей обе щеки.

В нашем мире Ферзь жил и убивал по самурайскому Кодексу чести.Дорога смерти была его дорогой. Он не знал, каким будет финал, но знал точно – смерть уже близко.Древнее языческое волшебство подарило ему еще одну жизнь.На этот раз – в Древней Руси. И оказалось, что деревянный меч субурито, которым в совершенстве владел Ферзь, ничуть не уступает стальным клинкам княжьих дружинников.И мечам их врагов…

Он — викинг, Рагнар Ворон, человек, у которого в жизни есть великая цель. Он пытался убить короля и у него ничего не вышло. Теперь и король, и наниматель хотят его голову. Остается только бежать, и кажется, что все вокруг против него. Помощь приходит с той стороны, откуда он ее не ждал. Тролли, словенский нежить, влюбленная хюльдра протягивают ему руку помощи. При создании обложки использован образ Лагнара Лодброка в исполнении Трэвиса Фиммела из сериала "Викинги".

И именно там нам навстречу выскочил единорог. Один. … Он выскочил на лужайку, сверкая, как кипящее серебро — на последнем луче уходящего спать Солнца повис, казалось, отделившийся от его лба витой рог. Он был прекрасен. Я не видел драконов, но думаю, что и они, и единороги — как и некоторые другие, как Ланон Ши — это то, что человек всегда сопровождает словами: «Я онемел». А я нет. Кипящее серебро его боков, сине-зеленый ремень вздыбленной по хребту шерсти, сапфирово-светящийся рог ошеломили меня и я негромко выдохнул: «На таком пахать впору».
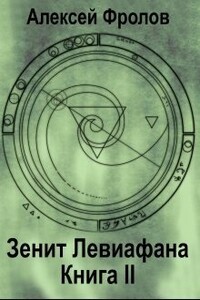
Карн вспомнил все, а Мидас все понял. Ночь битвы за Арброт, напоенная лязгом гибельной стали и предсмертной агонией оборванных жизней, подарила обоим кровавое откровение. Всеотец поведал им тайну тайн, историю восхождения человеческой расы и краткий миг ее краха, который привел к появлению жестокого и беспощадного мира, имя которому Хельхейм. Туда лежит их путь, туда их ведет сила, которой покоряется даже Левиафан. Сквозь времена и эпохи, навстречу прошлому, которое не изменить… .

Каждый однажды находит свое место в этом мире, каким бы ни было это место. Но из всякого правила бывают исключения, особенно если речь заходит о тех, кто потерялся не только в жизненных целях, но и во времени.

Погода — идеальная тема для разговоров. А еще это идеальное фантастическое допущение. Замерзающий мир или тонущие в тумане города. Мертвый штиль или дождь, стирающий предметы и людей. И сердце то замирает, замерзнув в ледышку, то бешено стучит, раскручивая в груди торнадо покруче, чем бывает снаружи… Придется героям искать новые способы выживать, приспосабливаться, а главное — продолжать оставаться человеком.

Что такое прошлое? И как оно влияет на будущее? Как мечта детства может изменить жизнь не только одного человека, но и целой эпохи?

Вторая война уже окончилась. Наконец-то окончилась служба в Стражах. Что же теперь ты будешь делать? Ведь впереди темное будущее…Примечания автора: Продолжение Рико — https://ficbook.net/readfic/4928129 Рико 3: https://ficbook.net/readfic/7369759Беты (редакторы): ptichkin, Лиса-ЛисьФэндом: NarutoРейтинг: NC-17Жанры: Фэнтези, Экшн (action), AU, Мифические существаПредупреждения: OOC, Насилие, Нецензурная лексика, Мэри Сью (Марти Стью), ОМП, ОЖП, Элементы гета, Элементы фемслэшаРазмер: Макси, 290 страницКол-во частей: 46Статус: законченПубликация на других ресурсах: Уточнять у автора/переводчика.

Двенадцать принцесс страдают от таинственного — и абсолютно глупого — проклятия. Любой, кто положит ему конец, получит награду. Ревека — умная, но недостаточно почтительная ученица знахаря, тоже хочет получить вознаграждение. Но её расследования раскрывают глубинные тайны и ставят девочку перед непростым выбором: сможет ли она разрушить заклятие, если опасности подвергается её собственная душа?