Речь против языка - [2]
Каждое отдельное звено то залихватских, то захватывающих, то завиральных реконструкций Новокшонова, начинающихся с вполне научных изысканий, но нечувствительно сворачивающих в сторону Ultimae Tulae Андрея Николева – А.Н. Егунова, напоминает совсем о другой традиции, отзвуки которой автор получил за годы пребывания в Ленинградском университете, ставшем Санкт-Петербургским. И хотя имя Андрея Николаевича Егунова (Андрея Николева) ни разу не упоминается в книге, это именно его последнее стихотворение задает тон пятой жиле, или струне прихотливой лиры Новокшонова.
В 1990-е годы автор зарабатывал, среди прочего, тем, что был тренером по у-шу. С головой окунулся в журналистику, работал в питерском отделении «Коммерсанта», где писал и под собственным именем, и под псевдонимами Овцын и Баранов. Это потом, в конце «нулевых», он остепенится и вернется в университет, чтобы преподавать риторику и греческий с латынью. А в первое постсоветское десятилетие Новокшонов переживает то, что тогда называли «тектоническим сдвигом». Этот сдвиг коснулся всех.
Новокшонов нашел едва ли не самый интересный способ удержаться на доставшемся ему фрагменте плиты. Он решил доказать себе и миру, что есть вполне академический способ стряхнуть с русского языка корку чужой речи – советской, постсоветской, научной, псевдонаучной, либеральной, интеллигентской. Римский воин, родивший русского офицера, должен был вернуться из далекого похода. Из далекого поля, куда добрались солдаты Красса. Вернее сказать, с полей гигантской книги (на ютубе можно в качестве внешней иллюстрации к книге посмотреть и прослушать восхитительный доклад Новокшонова об этимологии слова margo, края, поля). В книге он должен был вернуться с главным орудием русского и римского воина – с лопатой.
Этой не метафорической, а прямо-таки натуральной лопатой Новокшонов раскапывает язык психолингвистического истеблишмента. В союзники автор, я думаю, не случайно приглашает историософа-мистика Льва Гумилева. В духе пародийных биографий «Новейшего Плутарха», которого написали в заключении Л.Л. Раков, В.В. Парин и другие ленинградские филологи-классики в целях сохранения душевного равновесия и умственного здоровья во Владимирском централе. Свой язык, который нужно спасти от чужой речи, – вот цель автора. Конечно, он пишет свою книгу в гораздо более щадящей атмосфере и в неизмеримо лучших условиях. Но проблему, поднятую учеными в «Новейшем Плутархе», решает в духе античной традиции серьезно-смешной сатуры. Как они, Новокшонов и пародирует речевые стратегии современной психолингвистики, и предлагает целую россыпь вполне серьезных этимологических догадок и находок, и перехватывает любимые мотивы современных мимов от любительского языкознания, nomina коих sunt odiosa.
Маленький фантасмагорический роман из второй жизни латинского языка в морозных русских пределах, переплетенный с академическим трактатом по греко-латинской этимологии, вплетенный в инвективы по адресу современного научного метаволапюка, – это и книга-загадка, в которой на каждой странице читателю предлагается выбор: идти ли тебе за чужим стебом, глумом и троллингом или отращивать критическое ухо и критический глаз для понимания творческого порыва автора.
Пусть эпиграфом к книге Дмитрия Евгеньевича Новокшонова будет позднее стихотворение Андрея Николева (А.Н. Егунова):
Гасан Гусейнов
I. Об этой книге
Название книги выглядит как «Пчелы против меда» или «Рок против наркотиков» только для непосвященных. Русскоязычные ученые, называющие себя лингвистами и изучающие говорящего homo sapiens, давно договорились между собой, что слова «речь» и «язык» обозначают разные вещи. У немцев такого нет: понятия языка и речи у них еще слиты в одном слове – Sprache.
Согласно этому договору, а точнее установлению высокого научного начальства, «речь» – это язык в действии, а «язык» – это явление, точнее – целостное неразрывное единство или, иначе говоря, естественно сложившееся неопределенно целое из знаков (примеч. i).
Название этой книги описывает расклад, когда целостное неразрывное единство начинает действовать против естественно сложившегося неопределенно целого из знаков: речь против языка.
Для образно мыслящего читателя это противодействие можно изобразить в виде пожирающей себя от хвоста змеи. Понятно, что результат такого действия хорошим для змеи быть не может.
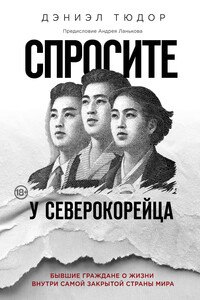
Дэниэл Тюдор работал в Корее корреспондентом и прожил в Сеуле несколько лет. В этой книге он описывает настоящую жизнь северокорейцев и приоткрывает завесу над одной из самых таинственных стран мира. Прочитав эту книгу, вы удивитесь тому, какими разными могут быть человеческие ценности.
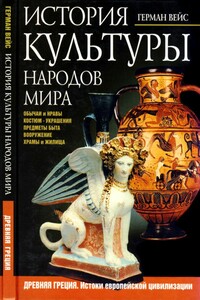
Этот том «Истории культуры народов мира» целиком отдан Древней Греции, в которой всего за несколько столетий было придумано и создано столько, что этого вполне хватило на остальные два с лишним тысячелетия развития европейской цивилизации. Древние эллины были талантливы во всем — в сооружении храмов и театральном искусстве, в строительстве кораблей и мореплавании, в устройстве военных машин и гимнасиев, не говоря уже о мелких бытовых деталях: бесчисленных флакончиках и футлярчиках для косметики, вазах и других обиходных предметах, при помощи которых наша жизнь навсегда стала удобнее и уютнее.«История культуры народов мира» — уникальное издание, в котором описаны костюмы, оружие, мебель, посуда и архитектурные сооружения народов нашей планеты начиная с IV тысячелетия до н. э.
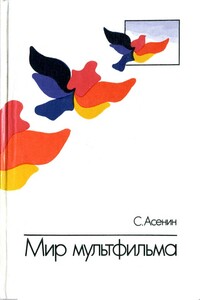
Богато и многообразно кукольное и рисованное кино социалистических стран, занимающее ведущее место в мировой мультипликации. В книге рассматриваются эстетические проблемы мультипликации, её специфика, прослеживаются пути развития национальных школ этого вида искусства.
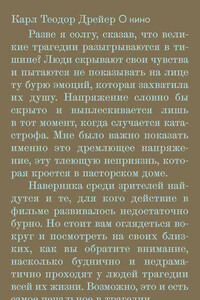
Датский кинорежиссер Карл Теодор Дрейер снял 14 полнометражных фильмов, пережил переход от немого кинематографа к звуковому и от черно-белого – к цветному, между съемками своего великого кино подрабатывал газетной критикой и заказными короткометражками и десятилетиями вынашивал замысел фильма о жизни Христа. В сборник «О кино» вошли интервью с Дрейером и его главные критические и теоретические статьи.

Новая книга политолога с мировым именем, к мнению которого прислушивается руководство основных государств, президента Center on Global Interests в Вашингтоне Николая Злобина – это попытка впервые разобраться в образе мыслей и основных ценностях, разделяемых большинством жителей США, понять, как и кем формируется американский характер, каковы главные комплексы и фобии, присущие американцам, во что они верят и во что не верят, как смотрят на себя, свою страну и весь мир, и главное, как все это отражается в политике США.
