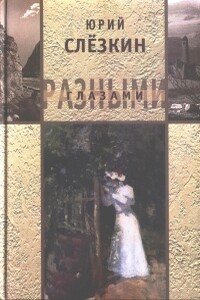Вообще, тут все в любовной панике — чертовски весело!
Ну, хватит с тебя на этот раз.
Целую.
XXVI
Сергей Пороша — журналисту Семенецкому в Зарайск
«Кириле», 6 июня
Вот что, башковатый, я тебе скажу: Крым письменному человеку погибель — точно в банке с гуммиарабиком >{15},— со всех сторон липнет — красоты всякие, горы, сласти, страсти, жарища, история — гуртом. Так и хочется сказать: осадите, товарищи, маленько. Только некогда. Ходишь — потеешь от натуги.
Стоял тут недалеко, где теперь Маяк, римский легион лагерем, сторожили подступ с моря, а сейчас наш рязанский мужичок в серо-зеленой пижаме принимает солнечные ванны. Два рубежа — два мира, две вершины, как на Ай-Петри,— Рим и СССР.
Но я не об этом, а о русском интеллигенте — о двух интеллигентах — доисторическом, дооктябрьском и сегодняшнем, скороспелом. Они тут оба под одной крышей, у одного стола, вместе по звонку встают, едят, спят. Два мира, две вершины от одного кряжа — русской культуры, русского духа, души — дыхания. Здесь они не в работе, не в навыках, не в идеологическом подходе, а в одной банке склеены, как мухи, стиснуты на чужом месте, под барской, великокняжеской крышей (чужой им обоим) для отдыха, для дыха, для дыхания, для души. Здесь они оба на солнце — два голых русских человека. Здесь им — стиснутым, склеенным — не о великом, не о вселенском забота, а о себе, о своей душе, о вековечном — о Любви. Вот здесь я узнал:
через метель, через голод, вши,
расстрелы, войны, через революцию,
минуя все запреты, затворы, заграждения,
русское сердце не притупилось —
болеет вековечной болью —
Любви, как ни одно сердце в мире.
Вздор все о том, что умерли грезы и розы, кровь и любовь, что все это — по ту сторону Октября. Великая ложь. Никогда так больно, сладко, строго, глубоко — не носили в себе русские люди радость и страдание Любви, как сейчас. Самая это теперь большая, бередящая тема.
Раньше были у любви — перегородки, закуточки, парадные и отхожие места. Раньше так: честная, порядочная, приличная любовь — брак, семья, двуспальная кровать; неприличная, тайная, запретная любовь — ракитовый куст, адюльтер, публичный дом. Для среднего, для маленького, для рядового человечка была у любви соответствующая формочка — с флёрдоранжем >{16} (ангельская любовь), с клубничкой (любовь-развлеченьице). Невинная девушка и проститутка. Церковь и публичный дом. Рядом, но за перегородочкой. Ходил маленький рядовой человек и туда, и сюда, по желанию,— знал: там — благодать, здесь — скверна; выбирал любовь по сортам, не им расписанным, взвешивал по весам, не им установленным, судил добротность не своим судом. Если иногда ошибался дверью или озоровал — вел девку публичную под венец, а невинную — в дом свиданий,— тотчас же получал должное возмездие и, вспоминая совесть, каялся. Мог любить, не ведая великого, страшного, в себе самом таяшего закон, единого для всех дыхания любви.
В метели, в крови, в поте Октября сорвало, сломало, искрошило все перегородочки, сбило последний оплот мещанской нравственности — публичный дом и церковь. Вышла в метельные просторы, в стужу, в разлив неустроенной нашей, вспененной жизни — Любовь — голой, беззаконной, шалой, страшной в своей извечной, самодержавной красе.
Как быть маленькому человечку (а много ли у нас больших людей?), простому, среднему русскому человеку с сердцем, как устроиться со своею совестью, как возвести новые перегородки, когда нет давно ему постылых, но привычно знакомых — церкви и публичного дома? Великая мука, великая непосильная тягота нести среднему человеку бремя любви, для которой кем-то сильным не уготованы еще прямые, для всех видимые пути.
Это я о русском интеллигенте хотел говорить, но сказал о всяком русском, и о всех русских, после гоньбы, борьбы, устали присевших наконец передохнуть, оглянувшихся вокруг себя,— из мира вселенной укрывшихся в свой мир — душу.
И не о том, а уже просто о мужчине и женщине, которым предопределено с начала начал — любить. Сейчас они во всем равны и свободны. Сейчас им двоим решать, кроить, судить, строить общую жизнь. А навыки старые, а дети родятся, как рождались. А кровать — одна, а мой, моя не только на языке, но и в сердце, как в дни, когда умыкали невест. Как быть с дозволенным и запретным, с благодатью и скверной? Кто рассудит?
Раньше было нельзя, теперь можно. Как можно? Можно стало тяжеле — нельзя. Легче быть судимым, чем судить самого себя.
Здесь, в Крыму,— люди на отдыхе — как на ладошке, под солнцем — голые, как на духу. Вся Россия — в своих лучших представителях, что ли: крестьян, рабочих, партийцев, интеллигентов. По дворцам от Ялты до Алупки, вдоль всего берега — голыми, лицом к солнцу, морю, в безделии наедине со своей душой. Почти все разными голосами — об одном — «неладно у нас в дому». Надо бы перетрясти перины — клопиный дух все еще жив. Мой, моя — н а ш.
Мещанство, собственничество, разброд.
Один молодой партиец хорошо сказал:
— Растрепство у нас в любви пошло.
А рабочий-металлист угрюмо:
— Надо бы декретом… сами не удумаем.
Нашелся и такой: красный герой, кремень, любо смотреть,— с лютостью ударив по камню бронзовым кулачищем, отрезал: