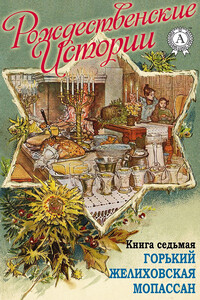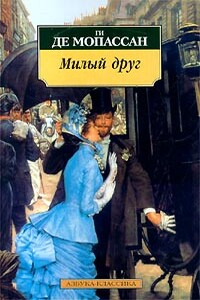Сообразив, что она, без сомнения, подслушивает у замочной скважины, я ответил:
— Нет, не слышал.
Он опять позвал:
— Полина!
Она промолчала и не шелохнулась. Он снова пустился в объяснения:
— Понимаете, не любит она, когда я привожу ночью приятеля пропустить стаканчик.
— Думаете, она не спит?
— Конечно, нет.
Лицо у него помрачнело.
— Ну, выпьем! — предложил он с явным намерением распить, одну за другой, обе бутылки.
На этот раз я проявил решительность: опорожнил один стакан и встал. Разносчик и не подумал идти меня провожать, а, глядя на дверь спальни со свирепостью взбешенного простолюдина, этого зверя, в котором вечно дремлет ярость, проворчал:
— Вот уйдете — все равно она у меня откроет.
Я смотрел на него, труса, взбеленившегося бог весть отчего. Может быть, в нем заговорило смутное предчувствие, инстинкт обманутого самца, не выносящего запертых дверей? Рассказывал он о жене с нежностью; теперь наверняка ее побьет.
Он опять рявкнул, дергая дверную ручку:
— Полина!
За стеной, словно спросонья, раздался голос:
— Чего тебе?
— Ты что, не слышала, как я вернулся?
— Нет, я спала. Отстань.
— Открой!
— Останешься один, тогда и открою. Терпеть не могу, когда ты по ночам пьяниц в дом водишь.
Я вышел, спустился, спотыкаясь, по лестнице, как тот, чьим невольным пособником мне пришлось стать, и по дороге в Париж думал об извечной драме, одну из сцен которой только что видел в этой конуре и которая ежедневно на все лады разыгрывается во всех слоях общества.