Разговоры с зеркалом и Зазеркальем - [38]
Каковы принципы! — комментирует эту сентенцию мужа Анна Петровна. — У извозчика и то мысли возвышеннее; повторяю опять, я несчастна — несчастна оттого, что способна все это понимать. Пожалейте вашу Анету, еще немного — и она потеряет терпение. Вот какой этот почтенный, этот деликатный, этот добрый человек, этот человек редких правил. Пусть поймут, как велика та жертва, на которую меня обрекли. Содрогнутся! О, как жаль мне несчастного отца моего, если он любит меня и если у него есть глаза. Только ежели он станет говорить с вами об этом, скажите ему, что я страдаю не из-за одной ревности (154).
Выделенные автором дневника слова — это, конечно, чужие, вероятно, отцовские, характеристики Керна, которые она старается дезавуировать. Интересно отметить, что в тексте соединяется страх перед отцом и «общественными приличиями», выражающийся в формулах почтения покорной дочери, и выражение бунта и даже угрозы.
Во имя самого неба прошу вас поговорить с папенькой; я в точности выполняла все папенькины советы насчет его ревности, но скажите ему, пусть не думает, будто его можно переубедить. <…> Ежели родной отец не заступится за меня, у кого же искать мне тогда защиты (235) — с одной стороны, и — Содрогнутся! (154) или в своем ослеплении он >(отец. — И.С.) уже заранее готовится сделать свое дитя несчастным. Не пришлось бы ему в этом каяться! (185) — с другой.
Мнение отца, воля отца, Закон Отца — это цензурующее Ты, перед которым дочь старается оправдаться в своем дневнике и против которого она иногда бунтует.
Но подобным цензором, представителем патриархатного порядка, отчасти выступает и прямой адресат, Феодосия Полторацкая, наряду со своими ролями идеального двойника или женски семейного своего человека. Точка зрения адресата довольно часто структурируется в тексте как некая позиция благоразумной, контролирующей нормы.
Вы скажете, быть может, что это будет стоить слишком много денег, а я вам скажу, что нет (138).
Вы ведь сами, милый друг, сотни раз бранили меня за то, что я не научилась притворяться, хоть это и необходимо в этом мире (147).
…хоть вы, быть может, скажете, что я слишком самонадеянна и что-нибудь еще… (150).
Неужели преступление желать себе счастья? Мысль эта ужасна. Ответьте мне, мой ангел, успокойте меня ради самого неба (150–151).
Вы и теперь будете говорить, что счастье мое зависит от меня? (154).
При всем декларируемом душевном единстве с подругой встречаются места, которые выдают, что Анна не всегда уверена в адекватной реакции адресатки:
…но вы не станете гневаться, если я скажу вам… (187).
…не браните меня, мой ангел… (188).
…я удивляюсь, что вы думаете, что она >(проповедь казанского епископа. — И.С.) для меня не будет занимательна (190).
Вы не будете столько жестокосердны, чтоб запретить или отсоветовать мне это (198) и т. п.
Чем более обостряются отношения Анны с мужем, тем чаше адресатка, папенька и все родные, пожертвовавшие ею во имя социального статуса и приличий, сливаются в одно «вы».
Не из-за этого ли вы все стали так несправедливы ко мне? (174).
Зачем вы прогнали меня от себя? Зачем переполнили чашу моих страданий? (176).
Зачем велели вы уехать от вас? (185).
Благодаря Полторацкую за письмо, Керн характерным образом соединяет ее в своем восприятии с папенькой:
Маменькина рука производит во мне некое нежное чувство, но ваша и папенькина производит почти одинакое восхитительное, приятное, тяжелое, мучительное, усладительное чувство (175). >(Выделено мной. — И.С.).
По мере приближения возможности возвращения в Лубны, то есть вожделенного соединения, тон посланий становится все более неуверенным: автор дневника делает усилия, чтобы убедить себя в том, что подруга действительно будет несказанно рада этому, но вопросы вроде «примете ли вы меня по-прежнему?» (238) выдают ее сомнения в том, что сентиментально-романный финал возвращения в рай возможен в реальности.
Как мне кажется, можно сделать вывод, что одна из ипостасей Ты в дневнике Керн — это контролирующее, цензурующее Ты, и оно представлено как возникающей на втором плане фигурой Отца (которому косвенно переадресовывается послание), так и непосредственно женским Ты адресата, тетушкой. Заметим, что в женской прозе первой половины XIX века именно тетушка выполняла роль суррогатной матери героини, была персонажем, который обучал свою протеже социокультурным нормам и стереотипам, осуществлял функцию контроля [245].
По отношению к этим Ты, Я текста находится в той двойственной, разорванной позиции, о которой говорят феминистские критики; женское авторское Я мечется между мимикрией и бунтом, между попытками структурировать свою «самость» в границах, заданных цензурующим Ты, представляющим точку зрения социокультурной нормы, и стремлением разрушить эту тюрьму правил.
Бунтующее, освобождающееся от канонов Я выказывает себя в истерических срывах, криках, дискурсе болезни или в проговорках, противоречащих тому «правильному» образу Я, который выстраивается на поверхности текста.
Ни в амплуа «чувствительной и добродетельной сентиментальной героини», ни в роль «оскорбленной жены», ни в образ тоскующей в отчаянии одиночества жертвы не укладываются другие детали текста. Керн отмечает любые знаки внимания и комплименты встречающихся ей мужчин; говоря о любви к одиночеству, все же не только выезжает, но часто описывает наслаждение от танцев и балов; говорит о своих красивых руках (135), о том, как она одета, о своей любви к кокетству: «признаюсь, иной раз я немножко кокетничаю, но теперь, когда мои мысли заняты одним, я уверена, нет женщины, которая так мало стремилась бы нравиться, как я,

Период с 1890-х по 1930-е годы в России был временем коренных преобразований: от общественного и политического устройства до эстетических установок в искусстве. В том числе это коснулось как социального положения женщин, так и форм их репрезентации в литературе. Культура модерна активно экспериментировала с гендерными ролями и понятием андрогинности, а количество женщин-авторов, появившихся в начале XX века, несравнимо с предыдущими периодами истории отечественной литературы. В фокусе внимания этой коллективной монографии оказывается переломный момент в истории искусства, когда представление фемининного и маскулинного как нормативных канонов сложившегося гендерного порядка соседствовало с выходом за пределы этих канонов и разрушением этого порядка.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.
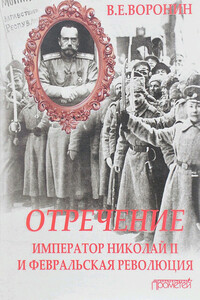
Книга посвящена деятельности императора Николая II в канун и в ходе событий Февральской революции 1917 г. На конкретных примерах дан анализ состояния политической системы Российской империи и русской армии перед Февралем, показан процесс созревания предпосылок переворота, прослеживается реакция царя на захват власти оппозиционными и революционными силами, подробно рассмотрены обстоятельства отречения Николая II от престола и крушения монархической государственности в России.Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся политической историей России.
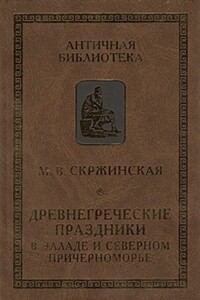
Книга представляет первый опыт комплексного изучения праздников в Элладе и в античных городах Северного Причерноморья в VI-I вв. до н. э. Работа построена на изучении литературных и эпиграфических источников, к ней широко привлечены памятники материальной культуры, в первую очередь произведения изобразительного искусства. Автор описывает основные праздники Ольвии, Херсонеса, Пантикапея и некоторых боспорских городов, выявляет генетическое сходство этих праздников со многими торжествами в Элладе, впервые обобщает разнообразные свидетельства об участии граждан из городов Северного Причерноморья в крупнейших праздниках Аполлона в Милете, Дельфах и на острове Делосе, а также в Панафинеях и Элевсинских мистериях.Книга снабжена большим количеством иллюстраций; она написана для историков, археологов, музейных работников, студентов и всех интересующихся античной историей и культурой.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.

Эта книга — не учебник. Здесь нет подробного описания устройства разных двигателей. Здесь рассказано лишь о принципах, на которых основана работа двигателей, о том, что связывает между собой разные типы двигателей, и о том, что их отличает. В этой книге говорится о двигателях-«старичках», которые, сыграв свою роль, уже покинули или покидают сцену, о двигателях-«юнцах» и о двигателях-«младенцах», то есть о тех, которые лишь недавно завоевали право на жизнь, и о тех, кто переживает свой «детский возраст», готовясь занять прочное место в технике завтрашнего дня.Для многих из вас это будет первая книга о двигателях.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.
