Разговор с незнакомкой - [79]
Да… так вот, отвыкать от родных и близких людей страшнее всего — тут уж поистине не пожалел бы ни ноги, ни руки, если бы можно было что-то предотвратить.
Что-то я про отца будто бы начал… Да-а… а отца у меня перед войной, в тридцать восьмом году… Есть такой город Пугачев на Волге. Вместе с тещей попали… в одну компанию. Отец у меня из купцов, богатым был человеком в свое время. Дед-то после вольной золотишко промышлял, оставил ему кое-что. Однако взглядов отец был новых, прогрессивных, как прежде говорили, было в нем что-то от Толстого, коим он зачитывался, от Саввы Морозова, с которым приятельствовал и компаньонил в некоторых делах. В магазинах своих, в лабазах хранил нелегальную литературу, кому-то помогал, кого-то скрывал. Пришла резолюция — не стал дожидаться своей очереди, сам пригласил представителей власти и сдал все по описи… В дальнейшем помогал налаживать торговлю, служил усердно… грамоты даже получал от губернских властей, а одну, мне кажется, чуть ли не за подписью Калинина. Нет, не зачлось…
…Ой, что это я, задремал?.. Ради бога, доктор, ради бога, простите. А я вдруг так ясно-ясно увидел на секунду Настеньку. Улыбнулась будто она мне издалека и идет навстречу… Да-а… на целых десять лет я ее пережил. Ох как были нелегки эти годы, доктор. Будь моя воля, я бы годы такие, как на войне, один за три считал.
…А встретил я ее в двадцать четвертом году, летом. Избой-читальней она заведовала в ту пору… в семнадцать своих лет. И вышло так, что губком рекомендовал на съезд комсомола меня и ее. И, верите, доктор, стоит мне закрыть глаза — я снова в том жарком июльском дне, и запахи того дня, и звуки. Представляете… небо сине-синее, бездонное, облака розовые, неподвижные, ржаное поле впереди беспредельное, колосья до груди достают и пахнут подогретым хлебушком и слегка пыльцой; жаворонок где-то высоко-высоко повис, точку и не отыскать глазами в густой синеве, а песня его падает сверху серебром звонким; под ногами же, в колосьях и в траве, кузнечики свиристят, шмели гудят. Настенька впереди меня — красная косынка ее так и мелькает, так и мечется среди хлебов, — а я с котомкой поспешаю за ней. Поле кончилось — речка подле дубравы, тихая, спокойная, разомлевшая от жары, еле-еле перекатывается меж берегов. А по-над берегом камыши коричневыми пиками торчат из зелени. Искупались мы, водички испили — и на станцию, до нее уж рукой подать было.
А вернулись домой, я уж, считай, поселился в ее читальне, «красным домом» мы ее называли, клуба еще не было в ту пору в нашей округе. За полночь, бывало, сидим. И все говорим, говорим… Об электричестве и не мечтали еще, при семилинейке, лампочке керосиновой, сидели, а то и при лучине. И какие только разговоры не ходили про нас — нет, ничего не пристало. Такова была Настенька… Посмотрит перед собой, окинет взглядом всех, глубоким, пронзительным, чистым, — самые лютые, самые настырные очи долу опускали. Благодаря ей я к книгам потянулся, к учебе. Сельхозтехникум кончил… перед войной в Тимирязевку поступал. Не вышло, правда, тогда у меня с учебой, время тяжелое было… В институте доучивался уже после войны, заочно, работая агрономом. И в общем-то, житель я сельский, доктор. Как послали в двадцатом на продразверстку, так и осел там. Это мы уж с Санькой здесь время коротали, после того как ее не стало. Дважды я ее терял, доктор…
Подайте, пожалуйста, кружечку… да-да, вот ту, эмалированную. Спасибо… В двадцать шестом ее избрали у нас секретарем, и снова она попала на съезд в Москву, теперь уже без меня, правда, одна. Это был март, самая распутица у нас… Не договаривались, что я ее встречать буду, у меня как раз дальняя поездка была, связанная с предстоящей посевной. И, верите, как чувствовал, освободился раньше на сутки… Лошадей гнал не щадя, к поезду хотел поспеть, да опоздал… В полдень попал домой, а поезд-то утром был, раз в двое суток ходил он тогда через нашу станцию. Все сроки прошли, а Настеньки нет. Кинулся тогда я, не помня себя, полураздетый через поле. А подморозило с утра-то, гололед, бегу, спотыкаюсь, и одна мысль только в голове бьется: «Катанки-то, катанки надо было прихватить, пообморозится ведь — в ботиках уезжала, по талому снегу…» Миновал поле, выбегаю на пригорок, сосна там еще стояла, молнией обожженная… Под сосной, вижу… лежит она, голову руками в рукавичках вязаных прикрыла, а под ней снег красный и твердый, как камень. Упал я рядом с нею, расстегнул шубку, припал ухом к груди, к губам ее, и показалось мне, дышит еще, легонько так, едва-едва… Нет, не помню, как тогда оказался на станции с Настенькой на руках, не помню… Вот тогда-то я едва не потерял ее, на волоске была жизнь, доктор. Прострелено легкое навылет, потеря крови и вдобавок ко всему — двусторонняя пневмония. В это нелегко поверить, но она выжила. Две недели в беспамятстве и потом еще два месяца в постели. Приоткроет глаза буквально на секунду и шепчет сухими губами: «Я выживу, Никита, я не оставлю тебя».
Один из братьев Русаковых, сосланных на Соловки в свое время, прошел в те дни по нашей округе. Узкоглазый, широкоскулый, жирный, разъевшийся на дармовых сладких хлебах, да и прозвище-то у него было точное — Батый. Трое их было, братьев, самые богатые люди в округе — две мельницы держали, конезавод, батраков не счесть. А уцелел один Батый, добрался до нас и действительно как Батый прошел: крупорушку-мельницу сжег, бывшую отцову, коней потравил, Настеньку выследил, зло свое на ней выместил. Не взяли его тогда, канул в бездну, можно сказать, с концами… Но увидеть его мне еще довелось однажды. Под Кенигсбергом, на глухом полустанке двое суток мы ждали особого распоряжения. Вышел я на рассвете покурить, гляжу, на медленном, черепашьем ходу ползет эшелон… Последний вагон-теплушка с решетками, за ними серые, щетинистые, как у волков, лица штрафбатовцев, глаза Батыя, как раскаленные угли, вперившиеся в меня… Долго еще потом меня жег этот взгляд.

Михаил Андреевич Лев (род. в 1915 г.) известный советский еврейский прозаик, участник Великой Отечественной войны. Писатель пережил ужасы немецко-фашистского лагеря, воевал в партизанском отряде, был разведчиком, начальником штаба партизанского полка. Отечественная война — основная тема его творчества. В настоящее издание вошли две повести: «Если бы не друзья мои...» (1961) на военную тему и «Юность Жака Альбро» (1965), рассказывающая о судьбе циркового артиста, которого поиски правды и справедливости приводят в революцию.

Ким Федорович Панферов родился в 1923 году в г. Вольске, Саратовской области. В войну учился в военной школе авиамехаников. В 1948 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Учился в Литературном институте имени А. М. Горького, откуда с четвертого курса по направлению ЦК ВЛКСМ уехал в Тувинскую автономную республику, где три года работал в газетах. Затем был сотрудником журнала «Советский моряк», редактором многотиражной газеты «Инженер транспорта», сотрудником газеты «Водный транспорт». Офицер запаса.

Автор публикуемых ниже воспоминаний в течение пяти лет (1924—1928) работал в детской колонии имени М. Горького в качестве помощника А. С. Макаренко — сначала по сельскому хозяйству, а затем по всей производственной части. Тесно был связан автор записок с А. С. Макаренко и в последующие годы. В «Педагогической поэме» Н. Э. Фере изображен под именем агронома Эдуарда Николаевича Шере. В своих воспоминаниях автор приводит подлинные фамилии колонистов и работников колонии имени М. Горького, указывая в скобках имена, под которыми они известны читателям «Педагогической поэмы».
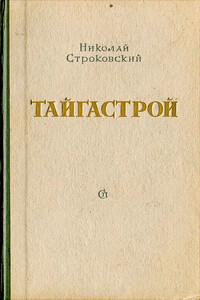
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Читателю широко известны романы и повести Евгения Пермяка «Сказка о сером волке», «Последние заморозки», «Горбатый медведь», «Царство Тихой Лутони», «Сольвинские мемории», «Яр-город». Действие нового романа Евгения Пермяка происходит в начале нашего века на Урале. Одним из главных героев этого повествования является молодой, предприимчивый фабрикант-миллионер Платон Акинфин. Одержимый идеями умиротворения классовых противоречий, он увлекает за собой сторонников и сподвижников, поверивших в «гармоническое сотрудничество» фабрикантов и рабочих. Предвосхищая своих далеких, вольных или невольных преемников — теоретиков «народного капитализма», так называемых «конвергенций» и других проповедей об идиллическом «единении» труда и капитала, Акинфин создает крупное, акционерное общество, символически названное им: «РАВНОВЕСИЕ». Ослепленный зыбкими удачами, Акинфин верит, что нм найден магический ключ, открывающий врата в безмятежное царство нерушимого содружества «добросердечных» поработителей и «осчастливленных» ими порабощенных… Об этом и повествуется в романе-сказе, романе-притче, аллегорически озаглавленном: «Очарование темноты».

Виктор Макарович Малыгин родился в 1910 году в деревне Выползово, Каргопольского района, Архангельской области, в семье крестьянина. На родине окончил семилетку, а в гор. Ульяновске — заводскую школу ФЗУ и работал слесарем. Здесь же в 1931 году вступил в члены КПСС. В 1931 году коллектив инструментального цеха завода выдвинул В. Малыгина на работу в заводскую многотиражку. В 1935 году В. Малыгин окончил Московский институт журналистики имени «Правды». После института работал в газетах «Советская молодежь» (г. Калинин), «Красное знамя» (г. Владивосток), «Комсомольская правда», «Рабочая Москва». С 1944 года В. Малыгин работает в «Правде» собственным корреспондентом: на Дальнем Востоке, на Кубани, в Венгрии, в Латвии; с 1954 гола — в Оренбургской области.