Растождествления - [88]
Но вот характерный эксперимент, на который стоило бы рискнуть ради понимания природы шпетовской зрелости. Эксперимент — вопрос. Отчего он с такой злобной изощренностью терзал умственные отправления ряда своих современников, скажем, Бердяева? Могло бы показаться на поверхностный взгляд, что речь идет об антиподах: пламенный религиозный мыслитель, сгорающий в «последних вопросах», и холодный иррелигиозный ум, облекшийся в брезгливый скепсис. Ничуть не бывало! Увидеть и услышать в Шпете только это — значит, увидеть и услышать его только глазами и только ушами; между тем (и здесь я снова цитирую его самого), «не нужно особенно много размышлений, чтобы убедиться, что дело здесь вовсе не в „глазе“ и „ухе“, а в уме»[100]. В каком–то более глубоком смысле они не то, что не антиподы, но единомышленники. А дело просто в том, что бердяевские темы никогда не могли бы стать здесь опубликованными, вообще выговоренными и, значит, в конце концов, израсходованными на вспышки; что, чем исступленно сгорать в «последних вопросах», надо бы прежде справиться с «предпоследними» — короче и по пословичному: что у Бердяева на языке, то у Шпета на уме.
В конце концов, дело шло и здесь об «оправдании человека», только без марки издательства и громокипящих слов (всё тех же мелких вспышек), а в стыдливой взыскующей умолчанности и накоплении взрывной энергии, с тем чтобы взрыв сотряс не стены издательства, скажем, «Пирожкова», а личные судьбы. «Пример — уход Толстого»…
Толстой и Шпет — какой неожиданный рикошет! Но им я, должно быть, касаюсь самого сокровенного, самого русского пласта души этого пресыщенного пересмешника и европейца. Сквозь позу скепсиса и готовность обдать ледяной струей насмешки любой чересчур программный икаровский порыв, сквозь беспощадный нигилизм эрудита, остужающий лихость несущейся стремглав «тройки» испытанными«стоп–кранами» историко–культурных разоблачений и логических выводов, — какая зоркая, какая предусмотрительная, именно тормозящая педагогика мысли! Какое тревожное предчувствие опасности в этом форсировании
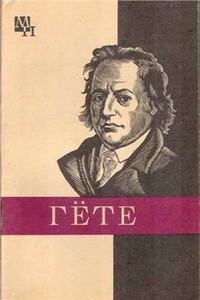
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Лекция прочитанная в МГУ им. Ломоносова в 25 мая 2005 г. "Философии по большому счету, — нет. Исчезли философские проблемы. Философия была всегда последовательностью проблем, а сейчас этого вовсе нет. Все эти Деррида склонированы с Хайдеггера, которому принадлежит честь быть первым дезертиром западной философии. Великую и трагическую работу мысли более чем двух тысячелетий он свёл просто к какой-то аграрной мистике. Гуссерль именно этому ужаснулся в своем талантливом ученике. Хайдеггер — это что-то вроде Рильке в философии.

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Усваивая азы конкретного мышления, мы начинаем едва ли не с того, что отучиваемся на скорую руку априоризировать понятия и привыкаем пользоваться ими сквозь окуляр различных "жизненных миров". У рыночных торговок в Афинах, судачивших о Демосфене и Изократе, отнялся бы язык, приведись им однажды услышать слово идея в более поздней семантике, скажем из уст Локка или Канта. Равным образом: никому не придет сегодня в голову выразить свое восхищение собеседником, сказав ему: "Вы, просто, ну какой-то психопат!", что еще в конце XIX века, после того как усилиями литераторов и модных психологов выяснилось, что страдают не только телом, но и "душой", могло бы вполне сойти за комплимент.

Главная тема книги — человек как субъект. Автор раскрывает данный феномен и исследует структуры человеческой субъективности и интерсубъективности. В качестве основы для анализа используется психоаналитическая теория, при этом она помещается в контекст современных дискуссий о соотношении мозга и психической реальности в свете такого междисциплинарного направления, как нейропсихоанализ. От критического разбора нейропсихоанализа автор переходит непосредственно к рассмотрению структур субъективности и вводит ключевое для данной работы понятие объективной субъективности, которая рассматривается наряду с другими элементами структуры человеческой субъективности: объективная объективность, субъективная объективность, субъективная субъективность и т. д.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге в популярной форме изложены философские идеи мыслителей Древнего мира, Средних веков, эпохи Возрождения, Нового времени и современной эпохи. Задача настоящего издания – через аристотелевскую, ньютоновскую и эйнштейновскую картины мира показать читателю потрясающую историческую панораму развития мировой философской мысли.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.