Растождествления - [65]
Еще раз: не он выбрал себе эту участь «великого», но после всего, что он делал и чем он был, выбор не мог уже пасть ни на кого другого, кроме него. Есть что–то атипичное в праздничной речи о Гёте, прочитанной в большом амфитеатре Сорбонны человеком, в шутку назвавшем себя в этой связи «чем–то вроде государственного поэта» (une espece de poete d'Etat); во всяком случае трудно представить себе нечто аналогичное, а именно: гениальность в ранге государственного мероприятия, в какой–либо иной стране, чем Франция. Что выглядело бы нелепым в любом другом культурном диспозитиве, вполне вписывается в стилистику страны, где вот уже три с лишним столетия сорок человек, объявляющих себя на время жизни бессмертными, совершенно официально и всерьез верят в то, что они представляют Архангела нации[70]. В попытке понять Гёте ex officio французскому академику Валери пришлось, пожалуй, как никогда ни до ни после этого, испытать на себе весь блеск и всю нищету гения своей расы. Ибо речь о Гёте не стала исключением, оказавшись и здесь, как и во всех прочих случаях, бумерангом. Знаменитые мужи, чествовавшие Гёте в 1932 или в 1949 году (год 1999 не идет в счет за отсутствием таковых мужей вообще), могли бы знать, что при всей оригинальности и даже поучительности их интерпретаций, оригинальным и куда более поучительным оказывался обратный эффект: сами они в свете, падающем на них от Гёте. Это второе дно прочтения принадлежало бы уже не миру истории с его юбилеями и академиями, а миру судьбы. Случай Валери, хоть и не составивший исключения, отличается от прочих. В свете Гёте (выражение это следует понимать не переносно, а буквально: свет Гёте — его световая теория) предстает не просто чествующий его мыслитель Валери, а мыслящая Франция.
«Мы говорим ГЁТЕ, как мы говорим ОРФЕЙ»[71]. Наверное, куда легче и естественнее было бы услышать нечто подобное не из уст француза о немце, а наоборот. В устах француза такое всегда граничит с неправдоподобностью. Аутизм французского esprit — факт, отрицать который было бы не менее нелепо, чем отрицать величие этого esprit; «француз, — заметил однажды аббат Галиани, — сколь бы умен он ни был, не способен представить себе, что существуют страны, отличающиеся от его страны»[72]. Правы те, кто ищет объяснение этой особенности во французской истории, как правы и те, кто объясняет саму французскую историю этой особенностью; если национализм, как таковой, обнаруживает и изживает себя где–нибудь на уровне первофеномена и, значит, не в превратностях идеологии, а по аналогии с обменом веществ, то именно во Франции: великой нации с тысячелетним стажем величия и явными признаками усталости от постоянной выставленности этого величия. Наверное, мольеровский Журден, к удивлению своему узнавший, что он говорит прозой, удивился бы вдвойне, узнав, что можно говорить и иной прозой, чем французская; о племяннице Вольтера рассказывают, что, занимаясь английским и безуспешно пытаясь исправить свое произношение с bread на bred, она воскликнула в сердцах: «Bread, bred! к чему так менять слова? Эти англичане действительно смешны! Отчего не сказать просто: du pain!»[73] В самом деле, отчего? — в стране, в которой даже Бог должен был чувствовать себя как дома (vivre comme Dieu en France); «Франция, — говорит Леон Блуа[74], — это ТАЙНА Иисуса, которую он не сообщил своим ученикам, потому что хотел, чтобы они её разгадали»; быть французом, значит быть привилегированным; сначала говорят француз, а там уже кем бы он ни был, потому что преимущества национального гения выпирают здесь наружу не только у великих и бессмертных, но и у кого угодно. Хьюстон Стюарт Чемберлен[75] пояснил это на случае, типичность которого подтвердит каждый, кто знает, о чем идет речь: «Когда я в прошлый раз прибыл в Булонь, я узнал к моей досаде, что мне придется целых три четверти часа дожидаться поезда на Париж; в отчаянии я заговариваю с покрытым сажей и копотью кочегаром локомотива, и, признаться, мне редко удавалось лучше проводить время, чем в этот раз; я сожалел, когда раздалось: „en voiture, s'il vous plait“. Славный малый не знал ничего, кроме Франции и французских дел; но как точно знал он их! С какой уверенностью судил он о правящих авантюристах! Он говорил на чистейшем французском, и речь его изобиловала шутками, остротами, попаданиями; ему ничего не стоило бы сойти со своего локомотива и взобраться на трибуну в Пале—Бурбон, чтобы блестяще выступить в прениях; также и в манерах, в тоне нет никакой разницы между кочегаром и Президентом Республики: вежливость, простота и уверенность, умение быть на равных друг с другом; ничего от средневековой мишуры немецких субординации и торжественностей. Всё это делает Францию приятнейшей страной в мире; оттого общество, которое обычно бывает в тягость, там одно удовольствие». Насколько явен и оглушителен факт французского влияния на других, настолько же проблематичен факт влияния других на Францию; немец, русский, итальянец, англичанин, говорящие по–французски, — норма и естественный канон культурного европейца еще в первой половине XX века, тогда как говорящий не по–французски француз производит впечатление легкого и трогательного недоразумения. И всё же история французской культуры была бы неполной и уже не совсем французской, не играй в ней эти недоразумения подчас роль движущей пружины. Особенно когда блистательному учредителю изяществ приходилось иметь дело с английским и немецким соседями. Неприязнь французов к обоим факт, не менее очевидный сегодня, чем триста лет назад; при всем том приходилось время от времени вымучивать из себя гостеприимство и выбирать из собственного дневного освещения (просвещения) между английской туманностью и немецкой темнотой, при почти одинаковой аллергии на оба случая. Началось, конечно, с Англии, от экспансии которой французский рассудок не пришел в себя вплоть до наших дней, несмотря даже на такие отчаянные меры, как введение денежных штрафов за употребление английских слов. Шутка из одной комедии Ожье вполне подходит и к этому случаю: «Мы похожи на человека, — говорит там какой–то острослов, — который в течение месяца семь раз переболел насморком и оправился от всех разов, кроме первого. Так и Франция успешно оправилась от всех своих революций, кроме первой»
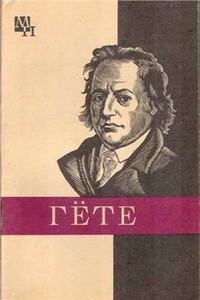
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Лекция прочитанная в МГУ им. Ломоносова в 25 мая 2005 г. "Философии по большому счету, — нет. Исчезли философские проблемы. Философия была всегда последовательностью проблем, а сейчас этого вовсе нет. Все эти Деррида склонированы с Хайдеггера, которому принадлежит честь быть первым дезертиром западной философии. Великую и трагическую работу мысли более чем двух тысячелетий он свёл просто к какой-то аграрной мистике. Гуссерль именно этому ужаснулся в своем талантливом ученике. Хайдеггер — это что-то вроде Рильке в философии.

Усваивая азы конкретного мышления, мы начинаем едва ли не с того, что отучиваемся на скорую руку априоризировать понятия и привыкаем пользоваться ими сквозь окуляр различных "жизненных миров". У рыночных торговок в Афинах, судачивших о Демосфене и Изократе, отнялся бы язык, приведись им однажды услышать слово идея в более поздней семантике, скажем из уст Локка или Канта. Равным образом: никому не придет сегодня в голову выразить свое восхищение собеседником, сказав ему: "Вы, просто, ну какой-то психопат!", что еще в конце XIX века, после того как усилиями литераторов и модных психологов выяснилось, что страдают не только телом, но и "душой", могло бы вполне сойти за комплимент.

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Главная тема книги — человек как субъект. Автор раскрывает данный феномен и исследует структуры человеческой субъективности и интерсубъективности. В качестве основы для анализа используется психоаналитическая теория, при этом она помещается в контекст современных дискуссий о соотношении мозга и психической реальности в свете такого междисциплинарного направления, как нейропсихоанализ. От критического разбора нейропсихоанализа автор переходит непосредственно к рассмотрению структур субъективности и вводит ключевое для данной работы понятие объективной субъективности, которая рассматривается наряду с другими элементами структуры человеческой субъективности: объективная объективность, субъективная объективность, субъективная субъективность и т. д.

Новейший философский словарьМинск – 1999 г. Научное изданиеГлавный научный редактор и составитель – ГРИЦАНОВ А.А.«Новейший философский словарь» включает в себя около 1400 аналитических статей, охватывающих как всю полноту классического философского канона (в его Западном, Восточном и восточно-славянском вариантах), так и новейшие тенденции развития философии в контексте культуры постмодерна. Более 400 феноменов и персоналий впервые введены в энциклопедический оборот. Словарь предназначен для специалистов в области философии, культурологии, социологии, психологии, а также для аспирантов и магистрантов гуманитарных специальностей.
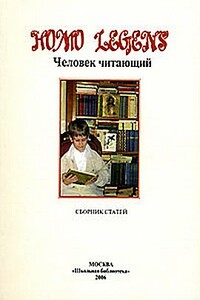
Бирюков Борис Владимирович — доктор философских наук, профессор, руководитель Межвузовского Центра изучения проблем чтения (при МГЛУ), вице-президент Русской Ассоциации Чтения, отвечающий за её научную деятельность.Сфера научных интересов: философская логика и её история, история отечественной науки, философия математики, проблемы оснований математики. Автор и научный редактор более пятисот научных трудов, среди них книги, входящие в золотой фонд отечественной историко-научной и логической мысли. Является главным научным редактором и вдохновителем научного сборника, издаваемого РАЧ — «Homo Legens» («Человек читающий»).Статья «„Цель вполне практическая.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.