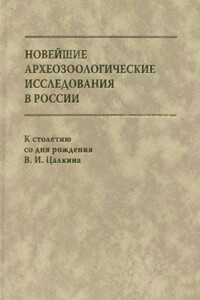Рассказы об ученых - [4]
И всё-таки шестидесятилетний академик не нашел в себе сил объяснить, что четырнадцатилетним мальчишкой, в пору, когда фольклористика еще не стала наукой, он сочинил легкомысленную книжку и теперь просит специалистов ею не пользоваться. Вероятно, он думал о том, с каким злорадством встретили бы его покаяние коллеги (а лучше ли они его?), как признание давней ошибки неминуемо сказалось бы на оценке его сегодняшних – методически безукоризненных работ. Сталкиваться и с тем, и с другим предстояло бы до конца дней. По самолюбию первоклассного ученого ежедневно наносились бы удары. И он предпочел отмолчаться. Человеческие слабости возобладали над чувством научного долга.
Вот об этой поучительной истории мне и хотелось напомнить, потому что в той или иной мере сходные нравственные проблемы мучат многих учёных, и наука от этого немало теряет. Но рассказываемая история ещё не исчерпана.
Помимо вреда, нанесённого науке, Срезневский и самому себе изрядно напортил. Может быть, он пострадал даже больше всех. Пусть и с опозданием, но историки и фольклористы разобрались, что к чему, и не пользовались уже сомнительными источниками. Жизнь же Срезневского оказалась отравлена.
Первый симптом того мне видится в неожиданной попытке, бросив фольклор, заняться политэкономией почти сразу же после издания и успеха «Запорожской старины». Попытка не удалась – политэкономические темы в николаевские времена находились под запретом. Должно быть, теми же колебаниями вызвано желание отсрочить выпуск следующих книжек «Запорожской старины». Гоголь дал Срезневскому плохой совет – пренебречь мнением рецензентов. Вернее, совет, пригодный для писателя, а не для учёного. Как ни слабо были развиты гуманитарные знания в 1830-х годах, всё же известный ориенталист О.И. Сенковский в своем журнале «Библиотека для чтения» точно определил недостатки «Запорожской старины»: «Автор хочет воссоздать летописи народа, которых не имеет…, и руководствуется своим вкусом в выборе авторитетов…, заставляет говорить местные предания и народные песни… Труд его… не имеет учёной формы»[16]. От составителя сборника Сенковский резонно требовал научного анализа материала, профессиональной критики источников. Но советы запоздали. Издание было уже завершено.
Сознавая его недостатки, вынужденный вернуться к филологии Срезневский в дальнейшем совершенно отошел от фольклористики и обратился к более надежным памятникам древнерусской литературы, зафиксированным письменно, на пергаменте и бумаге, подлинность которых твёрдо доказана. На изыскания фольклористов он смотрел отныне с сугубой подозрительностью. Когда вышел из печати первый том олонецких былин П.Н. Рыбникова, тех самых былин, что входят сейчас в каждую школьную хрестоматию, Срезневский опубликовал крайне кислую рецензию. В ней он упирал на своё «впечатление, ведущее за собой нерешимость простодушно доверять, что собранные песни суть действительно произведения народные, а не подражания им. Сомнение зарождается и укрепляется тем естественнее, чем менее противопоставлено ему преград, а при издании сборника господина Рыбникова не сделано в этом отношении почти ничего»[17]. Обжегшись на молоке, рецензент дул на воду. В 1866 году он обмолвился в письме к А.А. Котляревскому: «Сержусь на тех, которые в молодости увлекаются так же, как и я увлекался, и будут досадовать на себя, как и я досадовал и досадую на себя. Не могу поправить своего прошлого»[18].
Но так было не только с былинами и думами. Любопытна в этой связи статья Д.И. Писарева «Наша университетская наука». Писарев, как и Чернышевский, и Добролюбов, слушал лекции Срезневского в Петербургском университете, работал в его семинариях. Измаилу Ивановичу было тогда пятьдесят лет, и он находился в расцвете таланта. Преисполненный отвращения к университетской системе преподавания, беспощадный к профессорам-рутинерам, Писарев не мог не выделить в лучшую сторону Срезневского, фигурирующего в статье под именем Сварожича[19]. И в то же время он почувствовал какой-то внутренний надлом, какую-то червоточину, отражавшиеся на всей деятельности ученого.
Писарева поразил мощный критический ум, всеразлагающий, всеразрушающий, способный всё развенчать, но не собрать воедино, не творить. Ему бросилось в глаза, что профессор всячески избегает обобщений и выдает на лекциях студентам лишь сырой материал, притом почти всегда добытый им самим, не веря опубликованному коллегами. «Сварожич», по словам Писарева, «как человек умный понимал неестественность своего положения, но по всей вероятности он начал понимать её уже тогда, когда дорога была выбрана, когда первые и самые трудные шаги были пройдены и когда, следовательно, поворотить назад и пойти по другой дороге было уже неудобно и тяжело. Он, конечно, никогда не говорил о том, что ему не нравится предмет его занятий… Но всякий мало-мальски внимательный наблюдатель мог заметить, что Сварожич глубоко равнодушен к своей науке и даже невольно относится к ней с легким оттенком скептического презрения»[20].
Может быть, Писарев – сторонник реальных знаний, третировавший гуманитарные науки как «болтовню», в чём-то сгустил краски, приписав учителю собственное восприятие филологии. Но и в воспоминаниях других учеников нарисован образ, во многом похожий на тот, что набросан Писаревым. Так, в мемуарах П.Н. Полевого отмечены огромная «алчность к работе» Срезневского, его колоссальная эрудиция, и наряду с этим – скептицизм, мнительность, недоверчивость к самому себе, мешавшие ему творить свободно. Полевой утверждает, что в частной беседе Срезневский иногда увлекался и излагал какие-нибудь свои интереснейшие концепции, но никогда не публиковал их. Итог таков: для того, чтобы стать великим учёным, у него было всё, но ему «не хватил о бодрости духа»

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.