Рассказы не о любви - [5]
Он носил рубашку цвета хаки и не по возрасту пестренький, жгутом извернувшийся галстук; когда я указывал ему, что брюки его сзади блестят, словно натертые ваксой, он не жаловался, но с какой-то преувеличенной болью говорил, что на нем все горит.
— А вы покупайте вещи подороже, ей богу это выгоднее, чем вечно гоняться за дешевкой, — говорил я.
— Выгоднее, вероятно, потом, — соглашался он, — но сейчас просто никак это невозможно.
— Поднатужьтесь, вы наживете на этом.
— А вдруг вещи окажутся слишком прочны?
— То есть как это слишком?
— Переживут меня. Подумайте, обида какая! Я мучился, тужился, обзаводился первым сортом, а он, подлец, возьми да и окажись прочнее и первосортнее самого меня. Очень будет досадно.
— Я знаю ваш бюджет точно: вы можете жить лучше, чем живете. На что вы деньги тратите? Страстей никаких, одеты плохо. По-моему, вы просто гурман, вы умрете от подагры. Да, да! Не возражайте! Вы любите ананасы какие-нибудь, наверное, и икру. Бывает это у холостяков, я знаю.
— Неправда, я не могу жить лучше, чем живу.
— Сам черт не разберет, что вы такое, вы — богема с мещанством пополам.
— Вероятно, и то, и другое, — в конце концов соглашался он со мной. — Как большинство людей, у которых нет ренты, и которые никогда не знают наверное, что их ждет в будущем, какая болезнь, какая старость, какая смерть. Ренту иметь, это все равно что знать: есть царствие божие! (Я преувеличиваю, конечно, но в этом роде). Таким людям нечего бояться, все устраивается и без них, им остается одно — не грешить. Или точнее: держать деньги в верном месте.
— Верных мест теперь нет.
— Держите под рубашкой.
— Я не мужик, чтобы хранить деньги дома, да и это место разве верное? Иногда все это так раздражает, что ей богу я вам завидую: по крайней мере нет никаких забот и привычка к работе.
— Не завидуйте. Ведь я из тех, которые ничего не знают. Искрошит нас, нищих, и костей не соберешь.
— А мне всю жизнь…
Я не стал ему объяснять, все равно он твердо уверен, что я счастливее, и конечно, он отчасти прав.
Кроун продвигает выточенные из дерева фигуры. Я задумываюсь.
— Вы слышите, как идут секунды? — спрашиваю я минут через десять молчания. — Они трепещут, как стрекозы, они шуршат.
— Стрекозы не шуршат, кажется. Это ваша выдумка. У часов скорее звук шелкового женского платья. Раньше были такие материи, помните? Впрочем, каждый слышит, что хочет.
— Девять десятых не слышит ничего, и не видит
— Каждое движение сопровождалось шелестом, и так бывало упоительно закрыть глаза и слушать, как скрипит шелк.
— Продолжайте.
Он взглянул на меня, умолк и низко склонился над фигурами, так низко, что мне не видно стало его лица, с большим, слегка искривленным носом, с бесцветными, умными глазами; я видел лишь голову с густыми сильно седеющими волосами. От них шел слабый запах какого-то цветка.
Этот запах я ощущал не впервые. Он сопутствует Кроуну в те дни, когда он бывает в парикмахерской, в остальное время от него пахнет иногда кухонным чадом — это когда он прямо из своего дешевого ресторана приходит ко мне. В этих ресторанах зимой и летом стоит чад от жареного картофеля. Мне кажется, Кроун очень редко отдает в чистку свои пиджаки, и может быть редко моется.
— Вы никогда не принимаете ванны? — спрашиваю я.
— Нет, — отвечает он, не поднимая лица.
Я не знаю, как намекнуть ему, что хорошо было бы ему вымыться душистым мылом, и решаю отложить этот разговор до другого раза. Я не хочу, чтобы Кроун опустился: опустившийся человек делается мне противен. Хотя бы для самого себя, для этих моих вечеров, мне необходимо сохранить Кроуна.
Мы очень долго молчим. Внизу, в доме, запирают дверь, это называется: наступила ночь. Накладывается на дверь засов, старинный засов, который успел, как и все, усовершенствоваться, утончиться за эти годы. Я хорошо знаю его: когда я выпускаю Кроуна, он гремит и щемит мне пальцы. Внизу замирают люди, гаснет свет. Через час-другой начнут щелкать в кухне мышеловки, треск слышен на весь дом, от него Кроун морщится и многозначительно смотрит на меня. Но мне безразлично: я мышей не люблю.
Кроун откидывается на стуле и говорит:
— Сегодня днем я проходит мимо вашего дома, листья почти все уже облетели. А в других садах еще держатся. Октябрь.
Мое изумление направляется в неожиданную для нас обоих сторону:
— То есть, как это вы проходили днем? Разве вы сегодня не были на службе?
— Нет.
— Почему?
— Потому что с первого числа меня рассчитали.
— Почему же вы молчите?
— Вот я уже не молчу.
— Но почему вы молчали?
— Ах боже мой, так!
— Так? Как вы легкомысленны, Кроун. Вот вы можете играть, острить, а о том, что службу потеряли — забыли. Надо же что-нибудь делать.
— Я делаю.
— И что же?
— Ничего.
Мы молчим не глядя друг на друга, фигуры опять пошли в ход: на расчерченной Кроуном доске, синими и красными карандашами.
— И вот проходил я мимо вас и увидел: на эдаком ветру, на всем вашем великолепном клене один лист остался. Эгоистически уцелел.
— Почему же эгоистически? Может быть ему просто случайно повезло?
— Эгоистически уцелел. Дрожит, но живет, и поверьте, таким способом до зимы дотянет. Старается изо всех сил.

"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.
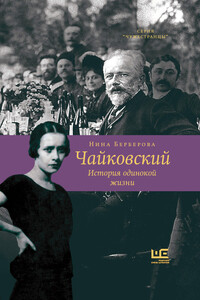
Нина Берберова, одна из самых известных писательниц и мемуаристок первой волны эмиграции, в 1950-х пишет беллетризованную биографию Петра Ильича Чайковского. Она не умалчивает о потаенной жизни композитора, но сохраняет такт и верность фактам. Берберова создает портрет живого человека, портрет без ласки. Вечная чужестранка, она рассказывает о русском композиторе так, будто никогда не покидала России…
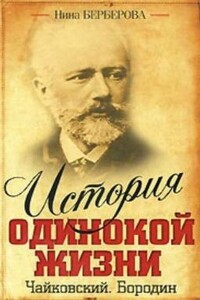
В этой книге признанный мастер беллетризованных биографий Нина Берберова рассказывает о судьбе великого русского композитора А. П. Бородина.Автор создает портрет живого человека, безраздельно преданного Музыке. Берберова не умалчивает о «скандальных» сторонах жизни своего героя, но сохраняет такт и верность фактам.
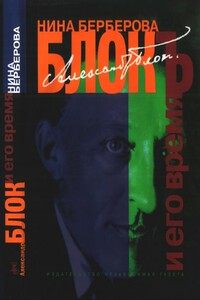
«Пушкин был русским Возрождением, Блок — русским романтизмом. Он был другой, чем на фотографиях. Какая-то печаль, которую я увидела тогда в его облике, никогда больше не была мной увидена и никогда не была забыта».Н. Берберова. «Курсив мой».
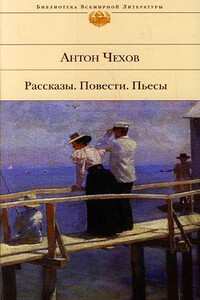
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
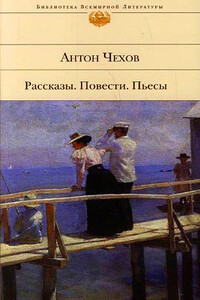
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.