Рассказы не о любви - [31]
— К тому времени сносим.
Все вместе мы пошли к Манюре.
— Эти цветочные горшки вообще ничего не стоят, да их и побьют до того.
— Не трогай, Митька, это гиацинты будут.
— Никто ничего не трогает. Икона. Ее в придачу к кофейной мельнице дадут. «Не поймет и не оценит», как сказал Майков. Где топор? Столик о трех ножках.
— Двадцать франков первая цена, — с увлечением воскликнул Виктор Иванович, и уже, наверное в эту минуту был непереводим ни на какой язык.
— Двадцать один, — сказала Манюра со слезами в голосе.
— Клянусь костью! О трех ножках столик. А еще — походная кровать.
Алеша попробовал кровавь, сел и провалился.
— Дети, дети, — сказал Виктор Иванович и замял, задергал свою бороду, — неужели же ничего у нас больше и нету?
— Есть еще велосипед, — сказала Манюра жестко, — хороший мальчишковый велосипед, прочный. За него ей-богу много могут дать.
Мальчики вдруг приуныли. Им стало что-то грустно. Они еще разок посмотрели на кувшин, на ведро, словно прицениваясь к ним, и вышли. И мы вышли тоже. И вдруг все вместе принялись искать по всему дому злосчастный топорик, зажигали спички, ползали по темным углам, упрекали друг друга, говорили, что это теперь у нас самый необходимый предмет в доме, — и все это под ланнеровские вальсы, звучавшие в тот вечер как-то особенно прекрасно, как звучали они еще в «Дворянском гнезде», или в каком-нибудь другом, непохожем на наше, месте.
Но топорика мы так и не нашли. Только спустя несколько дней оказалось, что он завалился за комод. Но к этому времени мы все уже отрезвели, и жизнь шла своим путем.
1938
ВМЕСТО НЕКРОЛОГА
Я помню с детства его большие, белые босые ноги, в крепких желтых сандалиях, с широким поперечным ремнем, отделявшим пальцы от подъема. Это было последнее лето перед войной. Помню, мы сидели в лодке: Миша на носу, мы с Леной на первой доске, за нами — на второй — он, орудуя веслами, а на корме за рулем сидел еще кто-то, уже не помню кто. Во всяком случае, там кто-то конечно находился, потому что когда я оборачивалась, и старалась мимо гребца заглянуть назад, мне кто-то мешал.
И вот внезапно между мной и Леной появились эти сандалии, эти ровные пальцы. «Мне нужен упор, — сказал он, — подвиньтесь, мелкота». Я подвинулась и уже не знала, что делать с руками, чтобы только случайно не задеть его. А озеро было такое металлическое, такое нарядное, финские сосны такие темные. Над ними, над далью, кто-то могуче и небрежно размазывал закат, и на воде было то единственное вечернее молчание, о котором и не догадываются оставшиеся на берегу.
«О, закрой свои бледные ноги!» — сказал голос позади меня, доска заскрипела от нажима, и весла заработали шумней.
На обратном пути я уже круто, подло ненавидела его. «И вовсе не надо пуд соли с человеком… достаточно увидеть босые ноги… Как противно! Они выдают его, неужели он не видит? Самодовольные, тупые… Лучше самые полосатые носки, чем это». Всходила северная луна, играла с водой, отводила от нас черный берег.
Между тем, он был молод, писал стихи, носил длинную бороду, чтобы скрыть, как говорили, свой некрасивый звериный рот, умел акварелью изображать всех нас, как мы плывем в лодке, а он в этих самых своих сандалиях, идет по водам, к нам навстречу; или еще: стоя с нами в лодке, протянутой рукой останавливает бурю. Он играл на рояле какие-то несуразности, заставляя нас петь хором слова, сочиненные им, и не имеющие никакого смысла. Когда я узнала, что ему двадцать лет, я очень удивилась:
— Миша, ты знал, что Корту двадцать лет?
— Врешь! Я думал пятьдесят.
— Лена! Ты знала, что Корту двадцать лет?
— Кто тебе сказал? Не может быть!
Таким образом я дошла до кухарки, которая на мой вопрос ответила: «Рассудительный жених будет».
Теперь то последнее лето вспоминается каким-то особенно засушливым, с бесчисленным падением звезд, с пожарами, чуть ли не даже пронзенное кометой.
Корт жил на соседней даче, у родственников. Мы иногда ходили к нему: ради крокета, ради гигантских шагов, ради вереском заросшего обрыва, с которого съезжали на собственных штанах до самого озера. Нас угощали чаем с ватрушками, и мы старались вести себя прилично. В комнате Корта это удавалось с трудом: слишком много было там соблазнительного.
— Двигайтесь, мелкота, — говорил он, выгоняя нас за дверь. — Ничего не украли?
А украсть хотелось одну из толстых тетрадок, в которые он твердым, круглым почерком записывал свои стихи.
И вот нам самим стало двадцать лет, и мне, и Лене, и настала такая осень, когда мы не вернулись в город, а остались зимовать над озером, в соснах, потому что между финским местечком и Россией прошла граница, и еще никому в голову не приходило перейти эту границу туда, а не оттуда. Снег очень скоро завалил нас совсем. В старом бревенчатом доме остались жители — словно четные цифры, нечетные были вынуты жизнью: отец Лены был неизвестно где, осталась мачеха. Миша был убит, мы обе были живы; дворник ушел на заработки в Выборг, у нас осталась одна кухарка. Почему-то перебиты были, обе собаки, и из всего живого, того, что многие годы здесь бегало, плодилось, подавало голос, осталась одна каурая Пенка, пожилая кобылка с розовой ноздрей.

"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.
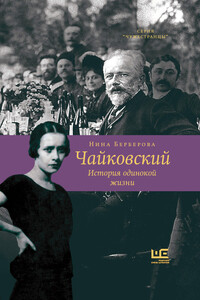
Нина Берберова, одна из самых известных писательниц и мемуаристок первой волны эмиграции, в 1950-х пишет беллетризованную биографию Петра Ильича Чайковского. Она не умалчивает о потаенной жизни композитора, но сохраняет такт и верность фактам. Берберова создает портрет живого человека, портрет без ласки. Вечная чужестранка, она рассказывает о русском композиторе так, будто никогда не покидала России…
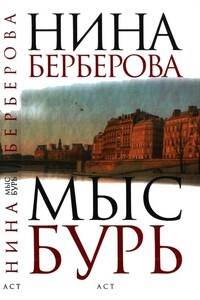
Героини романа Нины Берберовой «Мыс Бурь» — три сестры, девочками вывезенные из России во Францию. Старшая, Даша, добра ко всем и живет в гармонии с миром; средняя, Соня, умна и язвительна, она уверена: гармонии нет и быть не может, а красота давно никому не нужна; младшая, Зай, просто проживает веселую молодость… Вдали от родины, без семейных традиций, без веры, они пытаются устроить свою жизнь в Париже накануне Второй мировой войны.В книгу также вошло эссе «Набоков и его „Лолита“», опубликованное «по горячим следам», почти сразу после издания скандального романа.

Нина Берберова, автор знаменитой автобиографии «Курсив мой», летописец жизни русской эмиграции, и в прозе верна этой теме. Герои этой книги — а чаще героини — оказались в чужой стране как песчинки, влекомые ураганом. И бессловесная аккомпаниаторша известной певицы, и дочь петербургского чиновника, и недавняя гимназистка, и когда-то благополучная жена, а ныне вышивальщица «за 90 сантимов за час», — все они пытаются выстроить дом на бездомье…Рассказы написаны в 30-е — 50-е годы ХХ века.

Из книги: Алексей Толстой «Собрание сочинений в 10 томах. Том 4» (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958 г.)Комментарии Ю. Крестинского.

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»)

Статья Лескова представляет интерес в нескольких отношениях. Прежде всего, это – одно из первых по времени свидетельств увлечения писателя Прологами как художественным материалом. Вместе с тем в статье этой писатель, также едва ли не впервые, открыто заявляет о полном своем сочувствии Л. Н. Толстому в его этико-философских и религиозных исканиях, о своем согласии с ним, в частности по вопросу о «направлении» его «простонародных рассказов», отнюдь не «вредном», как заявляла реакционная, ортодоксально-православная критика, но основанном на сочинениях, издавна принятых христианской церковью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том трехтомного издания прозы и эссеистики М.А. Кузмина вошли повести и рассказы 1906–1912 гг.: «Крылья», «Приключения Эме Лебефа», «Картонный домик», «Путешествие сера Джона Фирфакса…», «Высокое искусство», «Нечаянный провиант», «Опасный страж», «Мечтатели».Издание предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся русской литературой Серебряного века.К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.http://ruslit.traumlibrary.net.
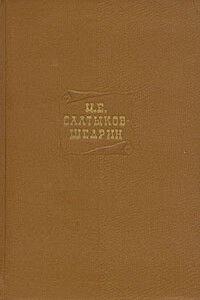
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника».