Рассказы канадских писателей - [5]
И я с охотой поддержал разговор:
— А меня — Томми Диксон. Только отец говорит, что я уже подрос и меня надо называть Том.
Вот что теперь имело значение — он и я, а вовсе не город.
— И ты всегда сам правишь? — спросил он, а я ответил беспечно:
— Им и править нечего, сам бежит. Вот увидите моего гнедого трехлетка, это другое дело. Я назвал его Ветерок. Если хотите, сегодня после ужина можете на нем прокатиться.
Но оказалось, что он никогда не учился ездить верхом и считал, что для начала ему, пожалуй, больше подойдет Алмаз, и тут мы опять поехали в ресторан за его корнетом и чемоданом.
— Это какой-то музыкальный инструмент? — спросил я на выезде из города. — Вроде горна?
Он поднял черный кожаный футляр, лежавший у него в ногах, и пристроил его на колене.
— Да, в этом роде. Когда-то я и на горне играл. Но корнет лучше.
— Так вы и на корнете умеете?
Он кивнул.
— Я играю в духовом оркестре. Вернее, играл. Может быть, если с твоим отцом мы поладим, опять когда-нибудь буду.
Лишь позднее я задумался над тем, какая связь между его отношениями с моим отцом и возвращением в духовой оркестр. А в ту минуту только признался:
— Я никогда не слышал корнета. Даже в глаза не видел. Наверное, вы и теперь можете поиграть, — ну, вечером, когда кончите копнить?
Вместо ответа он сказал:
— Значит, ты никогда не слышал духового оркестра?
Голос его прозвучал удивленно, почти недоверчиво, но беззлобно. Почему-то мне не стало стыдно, что я прожил все одиннадцать лет своей жизни на ферме в прерии и знал только мисс Уиггинс да граммофон тети Луизы. А он продолжал:
— Я был моложе тебя, когда начал играть в оркестре. Одно время и в симфоническом играл, а потом опять в духовом. Только этим с тех пор и занимался.
Я было затосковал — выходило, что я отрезан от всего, что есть в жизни замечательного, — но скоро приободрился и спросил:
: — Вы знаете такую пьесу «Сыны свободы»? Четыре бемоля, счет четыре четверти.
Он попробовал вспомнить, потом покачал головой.
— Нет, к сожалению. Во всяком случае, названия такого не знаю. А ты можешь просвистеть оттуда кусочек?
Я просвистел две страницы, но он снова покачал головой.
— А мелодия хорошая. Откуда ты ее узнал?
— Я ее учу, но еще не выучил. То есть еще не совсем. Мне ее уже две недели задают, но она очень быстрая.
Ему как будто было интересно, и я рассказал ему про уроки, и про мисс Уиггинс, и что мне обещали купить метроном, чтобы я держал темп.
— Особенно для маршей, — сказал я. — Марши тебя подгоняют, чтобы играл быстрее, а ты сбиваешься и приходится начинать сначала. Я знаю, у меня получалось бы лучше, если бы я так не чувствовал, а играл медленно и ровно, как мисс Уиггинс.
Но он живо перебил меня:
— Нет, чувствуешь ты правильно, просто надо научиться держать это чувство в узде. Это все равно как старый Алмаз и Ветерок. Сейчас ты — Ветерок. Но если бы ты таким не был, если б был норовом потише и тебя не тянуло пуститься вскачь, ты был бы всего-навсего Алмаз. Понимаешь? С Алмазом легче иметь дело, чем с Ветерком, но он, сколько бы ни старался, всегда останется сонным старым работягой. С Ветерком иметь дело труднее, он может и сбросить тебя не раз и не два. Но объезди его — и у тебя будет первоклассная лошадь. Ее не променяешь и на дюжину таких, как Алмаз.
Пример был понятный, но очень уж обидный для Алмаза. А он слушал наш разговор. Я это знаю, потому что, хотя он, как и я, сроду не слышал корнета, я был уверен, что опыт научил его переживать такие огорчения сдержанно, не выдавая своих чувств.
Вскоре затем Филип, заметив, что я все поглядываю на футляр, который он по-прежнему держал на колене, расстегнул пряжки и вынул корнет. Корнет был чудесный, изящной формы и выразительный, и блестел на августовском солнце, как чистое, теплое золото. Я не удержался и сказал:
— Пожалуйста, поиграйте прямо сейчас, хоть немножко, мне так хочется послушать!
А он в ответ улыбнулся моей горячности и поднес корнет к губам.
Но прозвучала всего одна нота, всего начало одной ноты, и Алмаз обезумел. Никогда бы я не поверил, что он на такое способен. Он фыркнул и прыжком свернул с дороги в канаву, потом выскочил из канавы и сумасшедшим галопом понесся по полю. Там было полно камней и барсучьих нор, и он мчался по ним напролом. Ящики из-под яиц, полные бакалеи, полетели на землю, потом отцовский табак, потом коробка с пудрой. Я заорал:
— Тпру, Алмаз, тпру! — но за грохотом колес он, наверно, меня и не слышал. От Филипа толку было мало, он знай цеплялся за свой корнет. Я пробовал натянуть вожжи, но на такой скорости все силы у меня уходили на то, чтобы усидеть в шарабане. Алмаз был крупный конь, ему нужно было время, чтобы угомониться. А может быть, он решил, что, если как следует нас измотает, мы потом не так строго с него спросим. И расчет его оправдался: я осмелился только обежать вокруг него и потрепать по потной шее, приговаривая:
— Умница, Алмаз, умница, никто тебя не тронет.
А еще надо было подумать о бакалее и о пудре, заказанной матерью. И под угрозой оказалась гордость и доброе имя Алмаза. Он устроил нам спектакль, достойный его подлинной натуры. Мы отыскали коробку с пудрой, она раскрылась, а один из ящиков треснул. Несколько апельсинов закатились в барсучью нору, нам так и не удалось их оттуда извлечь. Минут десять мы просеивали между пальцев изюм, и все-таки на нем чувствовался песок. Я пытался утешить Филипа:
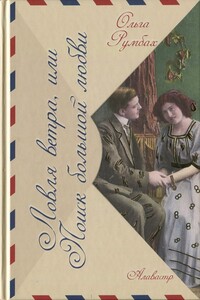
Книга «Ловля ветра, или Поиск большой любви» состоит из рассказов и коротких эссе. Все они о современниках, людях, которые встречаются нам каждый день — соседях, сослуживцах, попутчиках. Объединяет их то, что автор назвала «поиском большой любви» — это огромное желание быть счастливыми, любимыми, напоенными светом и радостью, как в ранней юности. Одних эти поиски уводят с пути истинного, а других к крепкой вере во Христа, приводят в храм. Но и здесь все непросто, ведь это только начало пути, но очевидно, что именно эта тернистая дорога как раз и ведет к искомой каждым большой любви. О трудностях на этом пути, о том, что мешает обрести радость — верный залог правильного развития христианина, его возрастания в вере — эта книга.

Шестеро молодых парней и одна девушка – все страстно влюбленные в музыку – организуют группу в надежде завоевать всемирную известность. Их мечтам не суждено было исполниться, а от их честолюбивых планов осталась одна-единственная записанная в студии кассета с несколькими оригинальными композициями. Группа распалась, каждый из ее участников пошел в жизни своим путем, не связанным с музыкой. Тридцать лет спустя судьба снова сталкивает их вместе, заставляя задуматься: а не рано ли они тогда опустили руки? «Французская рапсодия» – яркая и остроумная сатира на «общество спектакля».

Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.

УДК 821.161.1-31 ББК 84 (2Рос-Рус)6 КТК 610 С38 Синицкая С. Система полковника Смолова и майора Перова. Гриша Недоквасов : повести. — СПб. : Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2020. — 249 с. В новую книгу лауреата премии им. Н. В. Гоголя Софии Синицкой вошли две повести — «Система полковника Смолова и майора Перова» и «Гриша Недоквасов». Первая рассказывает о жизни и смерти ленинградской семьи Цветковых, которым невероятным образом выпало пережить войну дважды. Вторая — история актёра и кукольного мастера Недоквасова, обвинённого в причастности к убийству Кирова и сосланного в Печорлаг вместе с куклой Петрушкой, где он показывает представления маленьким врагам народа. Изящное, а порой и чудесное смешение трагизма и фантасмагории, в результате которого злодей может обернуться героем, а обыденность — мрачной сказкой, вкупе с непривычной, но стилистически точной манерой повествования делает эти истории непредсказуемыми, яркими и убедительными в своей необычайности. ISBN 978-5-8370-0748-4 © София Синицкая, 2019 © ООО «Издательство К.
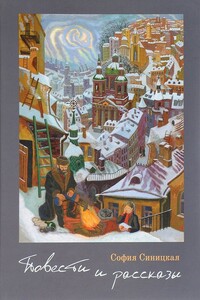
УДК 821.161.1-3 ББК 84(2рос=Рус)6-4 С38 Синицкая, София Повести и рассказы / София Синицкая ; худ. Марианна Александрова. — СПб. : «Реноме», 2016. — 360 с. : ил. ISBN 978-5-91918-744-8 В книге собраны повести и рассказы писательницы и литературоведа Софии Синицкой. Иллюстрации выполнены петербургской школьницей Марианной Александровой. Для старшего школьного возраста. На обложке: «Разговор с Богом» Ильи Андрецова © С. В. Синицкая, 2016 © М. Д. Александрова, иллюстрации, 2016 © Оформление.
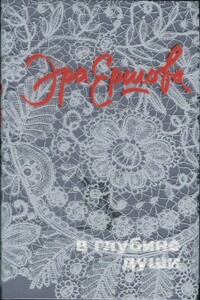
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.