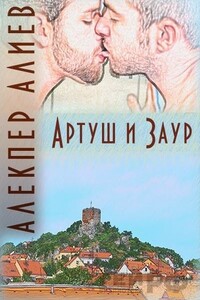Колхозник все больше хмелел, полились пьяные слезы. Речь его стала совсем бессвязной, и, положив голову на стол, он заснул. Мы еще часа полтора поработали, пока уставший от безделья конвоир не погнал нас в зону.
По дороге Семен резонерствовал:
— Выхода у него не было, служить пошел. Ишь ты! Эти шкуры всегда так оправдываются. Бога у них нет. Заставили его! Не признаю я этого. Меня сколько раз вербовали, в дятлы хотели записать, стукачом сделать. У нас в Львовской области каждого второго вербуют. А этот честного труда испугался. С нашим братом, зека, зверует, совести нет. Его, видите ли, заключенный предал! И что он со своего надзирательства поимел — живет хуже собаки!
Слегка помолчав, Семен добавил:
— А так подумать, всем плохо, и зека, и стражникам.
— Ну, разница, положим, есть, — робко возразил я.
— Нет разницы, — отрезал мой философ, — при этом строе все заключенные. Мы все шагаем под конвоем. На всех печать Каинова!
На следующий день Колхозник во время работы появился на лесобирже. Он внимательно на меня посмотрел, явно стараясь что-то вспомнить. Чувствовал, что накануне сболтнул лишнее, но что именно, видимо, вспомнить не мог. Он подозвал меня:
— Ну ты, того, что я вчера по пьянке говорил, о том молчок. А то сам знаешь… Тебе, зека, все равно не поверят, — просительно и вместе с тем с угрозой в голосе сказал он.
— Да я и не помню, что вы там вчера говорили, — успокоил его я.
— То-то же, не помнишь, — согласился со мной надзиратель. У него был вид затравленного и усталого человека. Больше он ко мне не цеплялся и, казалось, меня избегал.