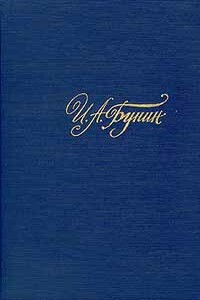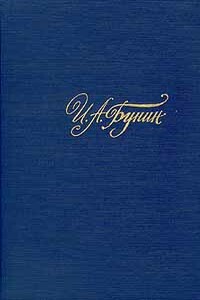— Ох, сколь вы привержены к парадоксам, вате высокопревосходительство, — сказала дама.
Но старичок продолжал:
— Говорят, что человек есть говорящее животное. Нет, вернее, человек есть животное пишущее. И количеству и разнообразию человеческих надписей — если уж говорить только о надписях — положительно нет числа. Одни вырезаны, выбиты, другие начертаны, нарисованы. Одни собственной рукой, другие рукой наследников, внуков, правнуков. Одни вчера, другие десять, сто лет тому назад или же века, тысячелетия. Они то длинны, то кратки, то горды, то скромны, даже чрезмерно скромны, то пышны, то просты, то загадочны, то как нельзя более точны, то без всяких дат, то с датами, говорящими не только о месяце и о годе того или иного события, но даже о числе, о часе; они то пошлы, то изумительны по силе, глубине, поэзии, выраженной иногда в какой-нибудь одной строке, которая во сто раз ценнее многих и многих так называемых великих произведений словесности. В конце же концов все эти несметные и столь друг на друга непохожие человеческие следы производят разительно одинаковое впечатление. Так что, если уж смеяться, то следует смеяться надо всеми. В Риме в таверне написано: «Здесь ели и пили в прошлом столетии писатель Гоголь и художник Иванов», — далеко не седьмой, как изволите знать. А не сохранилось ли надписи на подоконнике в Миргороде о том, что в позапрошлом столетии некто кушал однажды с отменным удовольствием дыню? Весьма возможно. И, по-моему, между этими двумя надписями нет ровно никакой разницы…
— Мне вот сейчас пришло в голову, — продолжал он, — где я на своем веку бывал и какие надписи видел? Оказывается, даже и счесть невозможно. Надписи перстнями на зеркалах в отдельных кабинетах ресторанов. Надписи клинописью. Надписи на колоколе в заштатном городе Чернаве, — имя, отчество и фамилия купца такой-то гильдии, создателя сего колокола. Гиероглифы на обелисках, на развалинах Карнакских капищ. Надписи на триумфальных цезарских арках. Каракули карандашом на голубце возле одного святого колодца в непролазной глуши Керженских лесов: «Поситили грешныи Ефим и Прасковья». Надписи сказочно- великолепной вязью в мечети Омара, в Айя-Софии, в Дамаске, в Каире. Тысячи имен и инициалов на старых деревьях и на скамейках в усадьбах и городах, в Орле и Кисловодске, в Царском Селе и в Ореанде, в Нескучном и в Версале, в Веймаре и Риме, в Дрездене и Палермо. Больше же всего, конечно, эпитафий. Где? Опять-таки даже счесть трудно. На деревянных и каменных крестах, на всяческих мавзолеях, на гранитных и сикоморовых саркофагах, на пеленах мумий, на медных досках, на железных плитах, на урнах и стелах, на драгоценных шалях, покрывающих гробы халифов, на скользких полах средневековых соборов и на столбиках из песчаника. Я глядел на эти надгробные паспорта в степях и пустынях, на Чернавском погосте и на Константинопольских Полях Смерти, на Волковом кладбище и под Дамаском, где среди песков стоят несметные рогатые бугорки из глины в виде седла, в Московском Донском монастыре и в Иосафатовой долине под Иерусалимом, в Петропавловском соборе и в катакомбах на Аппиевой дороге, на берегах Бретани и в сирийских криптах, над прахом Данте и над могилой дочурки Фени в Задонске. А, есть отчего впасть в парадоксальность, сударыня! Вы скажете, что вы говорили не о том. Вас, как и многих других, возмущают надписи вот вроде этих, то есть те, что вкривь и вкось покрывают развалины романтических замков и башен, внутренность вышки над куполом римского Петра, ворота на Байдарском перевале, верхушку пирамиды Хеопса, скалы в Дарьяльском ущелье и в Альпах, где они бьют в глаза издалека, пишутся запасливыми путешественниками красной и белой краской? Вас приводит в негодование проявление пошлости, обывательщины, как говорят в подобных случаях, — дерзость мещанина, прикладывающего свою руку всюду, где он ни ступит?
— В негодование я не прихожу, — сказала дама, — но что надписи эти в достаточной мере противны, не скрываю. Вы, ваше высокопревосходительство, нынче в философском настроении и хотите высказать, очевидно, ту бесспорную истину, что все, мол, суета и что перед лицом господа бога совершенно равны и Данте, и какая-то Феня. Мол, река времени в своем теченье уносит все дела людей, то есть и Хеопса, Фрица, и Иванова первого, и Иванова тысячу семьсот семьдесят седьмого. Вы эту Америку открыли? Да?
Но старичок только усмехнулся.
— Вы как нельзя более проницательны, мой старый друг, — ответил он. — За свою долгую жизнь я пришел к чудовищным выводам относительно человеческого ума и человеческой осведомленности насчет даже самых бесспорных истин и насчет возможности еще долго напоминать их без всякого риска. Кроме того, мне просто всегда очень нравились старые истины, с годами же я становлюсь прямо обожателем их, ибо ведь это только истерическим поросятам из нынешних модернистов простительно думать, что мир лет десять тому назад стал совершенно неузнаваем по сравнению со всей предыдущей мировой историей. Было время, когда и я весьма немногим отличался от прочих. Прочие посягали на Иванова седьмого, а я смотрю, бывало, на клинопись и думаю: «Хоть ты и Вавилон построил и Сезостриса, как говорится, на голову разбил, а дурак!» Ну, а теперь я снисходительнее отношусь и к Навуходоносору и к Иванову.