Распутин - [5]
Спустя пять месяцев, проведенных в блестящем и волнующем Петербурге, его снова тянет в деревню, привести в порядок мысли. В январе 1904 года он уезжает в Покровское. Ширь заснеженной равнины, тишина, уединенность, семья, встречающая его как истинного героя веры, и маленькая часовенка, полная верующих. Однако сразу после его отъезда в Сибирь в Санкт-Петербург прибывает архиепископ Тобольский Антоний. Услышав от духовных лиц хвалебные речи в адрес Распутина, он выходит из себя. Сведения, которые поступили к нему за последнее время, содержат скандальные выходки, учиненные старцем в деревнях, и даже в Казани. Его осуждают за распутство, за то, что он «ездит на бабах» под предлогом подготовить их к светлому причастию. Несмотря на столь серьезные обвинения, Феофан непоколебим в утверждении, что его ставленник пророк. Может быть, с некоторыми слабостями… Но у кого их нет? Во всяком случае со своими безыскусными речами он лучше других подходит, чтобы очистить от тлетворного влияния Запада атмосферу высшего общества, и прежде всего двора.
На самом деле, обдумывая все это, Феофан вспоминает о странном поведении императрицы Александры Федоровны и ее окружении, об уходе от истинной веры в мистические дебри. Он считает, что необходимо срочно помешать самым видным людям в государстве идти на поводу у наводнивших столицу магов и спиритуалистов и вернуть их в лоно православия. Распутин пришел вовремя, и ему брать на себя эту роль. Нужно скорее вернуть его в Санкт-Петербург. Ему дают знать, и в начале 1905 года он возвращается в столицу.
Он находит общество, полное волнения. Абсурдность русско-японской войны, которая разразилась в прошлом году, неотступно занимает умы. Простой человек не понимает, зачем его отправляют на верную смерть, если японцы не угрожают его Отечеству. В передовых кругах шушукаются, что бойня необдуманно развязана в угоду финансовым интересам.
Первое поражение русской армии, внезапные атаки врага, осада и последовавшая капитуляция Порт-Артура привели национальные интересы к полному отчаянию. В салонах и на улицах открыто критикуют правительство. 9 января 1905 года недовольство масс вылилось в мирную демонстрацию рабочих, возглавляемую попом Гапоном, подкупленным полицией. По приказу властей Петербурга, толпы людей были встречены конными жандармами и огнем. Убитые и раненые усеяли мостовую. Последствием Кровавого воскресенья, как его сейчас называют, стала потеря уважения к царю. Чем же еще можно так обрадовать прогрессистов, и особенно террористов, ищущих повод для взрыва реакции. Террористические акты следуют один за другим. 4 февраля 1905[2] года убит бомбой великий князь Сергей Александрович, дядя Николая II, командующий войсками Московского округа.
Единственное утешительное событие в этой цепи несчастий — рождение несколько месяцев тому назад цесаревича Алексея, единственного наследника императорской четы, имеющей четырех дочерей. Но благословенное для династии событие вскоре было основательно подпорчено революционной смутой, сотрясающей власть бесконечными митингами, забастовками, листовками и покушениями. В пароксизме беспорядков — бунт на броненосце «Потемкин». Озверевшие матросы расправляются с офицерами и приходят в Одессу, укрепив на мачте красный флаг. Гарнизон сопротивляется, на улицах валяются трупы. Спокойствие наступило только после того как команду разоружили в румынском порту Констанце.
Между тем на Дальнем Востоке русская армия терпит поражение за поражением. Сухопутное поражение в Мукдене, морское — уничтожение русского флота в Цусиме. Империя трещит по швам. У России только один выход — подписать с Японией в Портсмуте позорный мир. Царь расстроен. Народ ставит ему в вину кровопролитие и поруганные знамена. Начинаются репрессии, что, впрочем, не мешает светской жизни, худо-бедно она идет своим чередом. В салонах, как всегда, изысканная публика, театры переполнены. Все надеются, что агитаторов арестуют и все успокоится.
По рекомендации Феофана, Распутина принимают в известных семьях. Иеромонах Илиодор, сопровождающий, представляет его жене инженера, государственного советника Ольге Локтиной. Она страдает расстройством нервной системы, и врачи один за другим отказываются ее лечить. Распутину открывается источник заболевания. Он понимает причину ее меланхолии и беседует с ней долго, по-отечески, а она падает без чувств, едва услышав его голос. Григорий решается избавить ее от болезни, взяв физически. Лекарство помогло. Опыт сей показал Распутину, что совокупление не делает различий между крестьянкой и светской дамой. И не все ли равно, где происходит мероприятие — в постели с вышитым бельем или на соломенном матрасе, покрытом куском тряпки, — секрет наслаждения один. Достаточно удовлетворить тело, чтобы полностью утолить жажду.
Став любовницей старца, Ольга Локтина в знак благодарности дает ему уроки чтения и светских манер. Позднее представляет его своим друзьям как целителя и пророка. Она рекомендует его графине Клейнмихель, та в свою очередь вводит в очень закрытый и реакционный салон графини Игнатьевой, чей муж, в прошлом министр Александра III, страстно увлечен оккультизмом. Они приглашают медиумов, вращают столы, вызывают духов. Экзальтированное общество в большинстве своем женское, здесь Распутин расцветает. Он разделяет мнение дам высшего общества в отношении царя Николая II, благословенного отца России, и соглашается в дискуссиях о пользе спиритизма. Завсегдатаи салона графини Игнатьевой видят в нем толкователя, кому Священное Писание служит не только для абстрактных молитв, а является книгой из плоти и крови, доступной нам грешным, книгой, утешающей в прегрешениях. В первых рядах экзальтированных слушательниц — обе великие княгини-черногорки, жены великого князя Петра Николаевича, дяди Николая II, и князя Романовского, герцога Лихтенберга
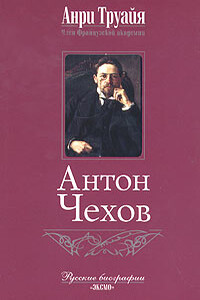
Кто он, Антон Павлович Чехов, такой понятный и любимый с детства и все более «усложняющийся», когда мы становимся старше, обретающий почти непостижимую философскую глубину?Выпускник провинциальной гимназии, приехавший в Москву учиться на «доктора», на излете жизни встретивший свою самую большую любовь, человек, составивший славу не только российской, но и всей мировой литературы, проживший всего сорок четыре года, но казавшийся мудрейшим старцем, именно он и стал героем нового блестящего исследования известного французского писателя Анри Труайя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
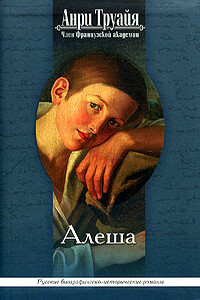
1924 год. Советская Россия в трауре – умер вождь пролетариата. Но для русских белоэмигрантов, бежавших от большевиков и красного террора во Францию, смерть Ленина становится радостным событием: теперь у разоренных революцией богатых фабрикантов и владельцев заводов забрезжила надежда вернуть себе потерянные богатства и покинуть страну, в которой они вынуждены терпеть нужду и еле-еле сводят концы с концами. Их радость омрачает одно: западные державы одна за другой начинают признавать СССР, и если этому примеру последует Франция, то события будут развиваться не так, как хотелось бы бывшим гражданам Российской империи.

Анри Труайя (р. 1911) псевдоним Григория Тарасова, который родился в Москве в армянской семье. С 1917 года живет во Франции, где стал известным писателем, лауреатом премии Гонкуров, членом Французской академии. Среди его книг биографии Пушкина и Достоевского, Л. Толстого, Лермонтова; романы о России, эмиграции, современной Франции и др. «Семья Эглетьер» один роман из серии книг об Эглетьерах.
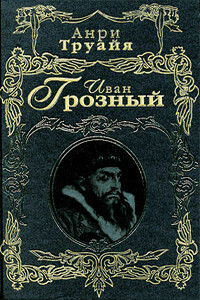
Личность первого русского царя Ивана Грозного всегда представляла загадку для историков. Никто не мог с уверенностью определить ни его психологического портрета, ни его государственных способностей с той ясностью, которой требует научное знание. Они представляли его или как передовую не понятную всем личность, или как человека ограниченного и даже безумного. Иные подчеркивали несоответствие потенциала умственных возможностей Грозного со слабостью его воли. Такого рода характеристики порой остроумны и правдоподобны, но достаточно произвольны: характер личности Мвана Грозного остается для всех загадкой.Анри Труайя, проанализировав многие существующие источники, создал свою версию личности и эпохи государственного правления царя Ивана IV, которую и представляет на суд читателей.
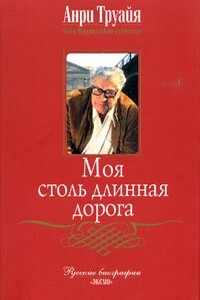
Анри Труайя – знаменитый французский писатель русского происхождения, член Французской академии, лауреат многочисленных литературных премий, автор более сотни книг, выдающийся исследователь исторического и культурного наследия России и Франции.Одним из самых значительных произведений, созданных Анри Труайя, литературные критики считают его мемуары. Это увлекательнейшее литературное повествование, искреннее, эмоциональное, то исполненное драматизма, то окрашенное иронией. Это еще и интереснейший документ эпохи, в котором талантливый писатель, историк, мыслитель описывает грандиозную картину событий двадцатого века со всеми его катаклизмами – от Первой мировой войны и революции до Второй мировой войны и начала перемен в России.В советское время оригиналы первых изданий мемуаров Труайя находились в спецхране, куда имел доступ узкий круг специалистов.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.