Распутин - [3]
Усиливающаяся изоляция царствующей четы, отчасти вызванная характерами Николая и Александры Федоровны, а в большой мере заформализованностью их жизни, все время побуждала Николая искать способ получать информацию неофициальным путем, от людей, далеких от бюрократии и придворной среды. Вот здесь появлялась та щель, сквозь которую в царское окружение мог проникнуть посторонний. Каким будет этот посторонний, тоже зависело не только от личных склонностей Николая.
60-80-е гг. XIX в. показали, что путь европеизации, на который Россия вступила со времен Петра, неизбежно ведет к отказу от неограниченного самодержавия. Это был магистральный путь развития человечества, вызывавший, однако, резкое отторжение всех сторонников идеи национальной исключительности России. Тем не менее время Александра II было временем своеобразного бюрократического конституционализма, когда проекты создания крайне ограниченных, но все же представительных учреждений разрабатывались крупнейшими министрами царствования. Резкий поворот во внутренней политике с приходом Александра III положил конец таким проектам, но одновременно исподволь набирает силу либерально-конституционное движение в обществе, опирающееся в первую очередь на дворянское в своем большинстве местное самоуправление — земство. Особенно заметным это движение стало уже при Николае II, в первой же публичной речи назвавшем надежды на более широкое участие земства в делах внутреннего управления «бессмысленными мечтаниями».
Но растущим конституционным настроениям нужно было противопоставить некий идеальный образ самодержавной монархии, в поисках которого идеологи самодержавия обращались к допетровской Руси. Монархия времен Алексея Михайловича (не случайно и долгожданный наследник Николая II был назван Алексеем) изображалась как время единения царя — помазанника Божия — с православной церковью и с народом, не отделенных друг от друга бюрократическим «средостением». Личные качества Николая, с детства воспитанного в атмосфере почитания допетровской старины и самого искавшего в ней противовес реальной действительности европеизирующейся России, создавали условия для расцвета культа «доброго старого времени». Это проявлялось и в имитации при дворе обычаев и нравов XVII в. как самим Николаем (костюмированный бал в этом стиле в феврале 1903 г. рассматривался им не как маскарад, а как первый шаг к восстановлению старомосковских костюмов и обрядов), так и наиболее ревностными его сторонниками вроде министра внутренних дел Д.С.Сипягина. Это находило выражение в распространении, еще со времени Александра III, псевдорусского стиля в архитектуре, особенно церковной.
Безусловная религиозность Николая тоже хорошо работала на образ «народного царя». Впервые после полувекового перерыва пасхальные торжества 1900 г. были проведены в Москве с участием царской семьи, и в правительственном отчете специально подчеркивалось, что Николай прибыл в Москву «по священному завету родной старины». Мистические наклонности Николая и Александры Федоровны, их непрестанные поиски чудотворцев тоже совпадали с определенными религиозными исканиями конца XIX в. и одновременно вписывались в идеологические схемы защитников самодержавия. В 1903 г. по настоянию Николая и Александры Федоровны была осуществлена канонизация почитаемого многими Романовыми монаха первой половины XIX в. Серафима Саровского, считавшегося в народе чудотворцем. На канонизации присутствовала царская семья и около 150 тысяч верующих. Это дало основание газете крайне правых «Московские ведомости» утверждать, что вокруг святых мощей собралась «вся Земля Русская» и «это такое представительство, перед внушительностью которого блекнут все всевозможные всенародные голосования». Меньше всего я хотел бы быть понятым так, словно считаю публичные оказательства Николаем и Александрой Федоровной их религиозных чувств притворством и политическим расчетом. Но каждый шаг главы государства неизбежно приобретает политический смысл и используется в политических целях, как бы искренен сам по себе он ни был.
Непосредственное участие в религиозных и юбилейных торжествах, привлекавших множество крестьян, еще сохранявших монархические чувства, не только укрепляло веру последних Романовых в любовь и преданность народа, веру, всегда составлявшую один из основных постулатов самодержавной идеологии. Оставаясь по существу царем дворянским и последовательно отстаивая интересы дворянского землевладения, Николай в то же время испытывал к дворянству сложное чувство. В литературе, в том числе в книге А.Амальрика, постоянно отмечается напряженность отношений Александры Федоровны и не принявшего ее великосветского общества, что не могло не отразиться и на позиции Николая. Кроме того, он был явно задет участием дворянства в либерально-конституционном движении до и во время революции 1905 г. Неприкрытая обида звучала в письме Николая к матери в марте 1908 г. «Теперь, когда стало спокойнее, — писал он, — дворянство начало жаловаться на разные нововведения и реформы, — но спрашивается, как и чем оно помогло правительству в страшную осень 1905 г. Ровно ничем». При таком настроении абстрактная идея единения царя с народом просто требовала живого воплощения не только в эпизодических встречах во время тех или иных массовых торжеств или в телеграммах и адресах «Союза русского народа». Если обстоятельства могли сложиться так, что в царском окружении оказался бы чуждый придворным сферам человек, то наибольшими шансами на успех обладал «богомольный крестьянин». Чудотворные же способности резко увеличивали такие шансы.
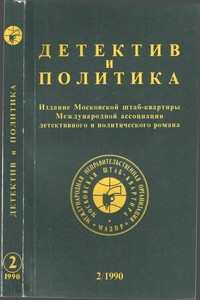
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
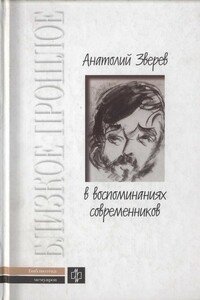
Каким он был — знаменитый сейчас и непризнанный, гонимый при жизни художник Анатолий Зверев, который сумел соединить русский авангард с современным искусством и которого Пабло Пикассо назвал лучшим русским рисовальщиком? Как он жил и творил в масштабах космоса мирового искусства вневременного значения? Как этот необыкновенный человек умел создавать шедевры на простой бумаге, дешевыми акварельными красками, используя в качестве кисти и веник, и свеклу, и окурки, и зубную щетку? Обо всем этом расскажут на страницах книги современники художника — коллекционер Г. Костаки, композитор и дирижер И. Маркевич, искусствовед З. Попова-Плевако и др.Книга иллюстрирована уникальными работами художника и редкими фотографиями.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
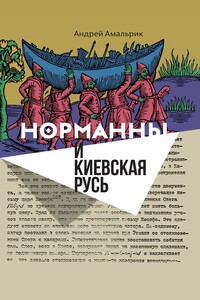
Исследование А. А. Амальрика (1938–1980) «Норманны и Киевская Русь» имеет уникальную историю. За эту работу студента МГУ Амальрика в 1963 году исключили из университета, поскольку он отказался в ней что-либо исправлять. С этого эпизода началась биография известного диссидента. Исследование осталось неизвестным широкой публике и до сих пор существовало всего в одном машинописном экземпляре, отсканированном Амальриком и депонированном в США. Целью этой публикации – ввести данную работу в научный оборот и показать, какого интересного профессионального историка-медиевиста мы потеряли в лице ее автора.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
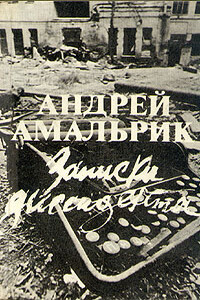
«Записки диссидента» вышли в издательстве «Ардис» уже после гибели автора в автокатастрофе осенью 1980 года. В книге — описание борьбы яркой, неординарной личности за свое человеческое достоинство, право по-своему видеть мир и жить в нем.Книги писателя и историка Андрея Амальрика широко известны на Западе. Это сборник пьес, «Нежеланное путешествие в Сибирь», историко-публицистическое эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», сборник критических статей и выступлений «СССР и Запад в одной лодке» и др.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.

Эта книга – результат долгого, трудоемкого, но захватывающего исследования самых ярких, известных и красивых любовей XX века. Чрезвычайно сложно было выбрать «победителей», так что данное издание наиболее субъективная книга из серии-бестселлера «Кумиры. Истории Великой Любви». Никого из них не ждали серые будни, быт, мещанские мелкие ссоры и приевшийся брак. Но всего остального было чересчур: страсть, ревность, измены, самоубийства, признания… XX век начался и закончился очень трагично, как и его самые лучшие истории любви.

«В Тургеневе прежде всего хотелось схватить своеобразные черты писательской души. Он был едва ли не единственным русским человеком, в котором вы (особенно если вы сами писатель) видели всегда художника-европейца, живущего известными идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе, или занятого делами, или же занятого теми или иными сословными, хозяйственными и светскими интересами. Сколько есть писателей с дарованием, которых много образованных людей в обществе знавали вовсе не как романистов, драматургов, поэтов, а совсем в других качествах…».

Об этом удивительном человеке отечественный читатель знает лишь по роману Э. Доктороу «Рэгтайм». Между тем о Гарри Гудини (настоящее имя иллюзиониста Эрих Вайс) написана целая библиотека книг, и феномен его таланта не разгадан до сих пор.В книге использованы совершенно неизвестные нашему читателю материалы, проливающие свет на загадку Гудини, который мог по свидетельству очевидцев, проходить даже сквозь бетонные стены тюремной камеры.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.