Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1 - [96]
— Куда тебя тянет… Девушке заниматься политической журналистикой впадлу, по-моему. В Кремле имбецилы одни сидят, — забавнейше ворчал на нее Цапель, когда она делилась своими фантасмагорическими планами.
— Ну так вот мне и хочется, чтобы имбецилы там больше не сидели, — со смехом подхватывала она. — Хочется как-то повлиять на ситуацию.
— Что за наивняк?! — злился на нее Цапель. — Имбецилы сидят в любом правительстве в любой стране мира. В правительство, во власть, вообще только имбецилы стремиться попасть могут! Умственно отсталые люди, которые больше себя ни в чем проявить не могут. Зачем тебе в этом говне копаться?
— Ну во-первых мы с тобой не знаем — про то, как в любой стране мира. Мы этого не видели. И увидеть не можем при всем желании. И вот для начала мне мечталось бы заставить имбецилов отменить крепостное право — чтобы каждый мог беспрепятственно выезжать из страны… Ну и свободные выборы, свободные газеты, телевидение, книги без цензуры. Это же не политика, Мишенька — это же просто качество воздуха вокруг! Дышать же иначе невозможно! А во-вторых, во-вторых… — перебивала саму себя она, торопясь, не зная как подобрать слова для столь очевидных, как ей казалось, вещей — и, в поиске слов, теребя все подряд хлястики на куртке Цапеля, — …во-вторых, ведь если всё отдавать на откуп имбецилам — как это здесь было с самого семнадцатого года, — ну мы ведь видим, что из этого получается! А потом — Миш, ну имбецилы же — это же не безобидные грызуны какие-то, отдельно от нас живущие, — имбецилы же, увы, жизнь людям увечат: у меня вот в школе был учитель…
— Ой, только не надо мне про школу… — красиво закатывал глаза к небу Цапель и заканчивал проигранный спор победоносным поцелуем. И, кажется, до сих пор не вполне верил, что ей и правда только пятнадцать.
В начале прогулки, обняв ее, он каким-то, боевым, целенаправленным шагом, обходил кругом университетский квартал — свернув на грязный Калининский, внырнув в забаррикадированную черными волгами Грановского — и вынырнув вновь — на ободранной улице Герцена — как будто пунктиром своих вызывающих шагов обводя здание, куда вечером она от него уйдет, — как будто стараясь это здание, по пунктиру, из пейзажа выдрать и аннигилировать.
В переулках домишки поплоше, пообтёртее, с сокрушенными фасадами чудно бежали за ними, как шелудивые беспризорные псы, с криво поднятыми хвостами водосточных труб. Были и другие дома — побогаче, которые медленно, как липкие жирные гусеницы, ползли рядом, заискивающе всматриваясь в глаза и ища сочувствия — и сочувствия не находили — потому что и свет из слишком рано зажигавшихся плафонов в парадных, который гусеницы эти на анализ предлагали, и солдафонские занавесочки в окнах, и выходящие из парадных жильцы с жиличками источали вонь, которую ни с чем не спутаешь — вонь плебейской номенклатуры.
— Ты поедешь со мной в Питер? — теребил ее Цапель. — В Питере есть флэт у друзей. Махнем хотя бы на пару дней! На собаках. Поедешь со мной или нет?
— Не знаю, может быть. На каких собаках?
— «Может быть — может быть»! Решайся! Когда ты решишь?
Эти быстрые, как боевые рейды, шляния по улицам, и его требовательные нетерпеливые объятия, — и не дававшие ей по ночам засыпать взведенные чувства — выматывали ее до крайности.
По какой-то неостроумной усмешке случая, занятия в шипящем шюже у нее в группе вел ровно тот хамелеонообразный студент с мешком для ловли мух под подбородком и отвратительно быстрой мимикой языка, будто то и дело слизывающего из углов рта мошек (да еще и с органичным цветом лица, эффектно менявшимся, в зависимости от настроения, от землистого до защитно-зеленого) — который прежде, будучи случайно встреченным на факультете, настоятельно рекомендовал ей «изучать неформалов», — нестерпимый зануда и системный до мозга хамелеоньих костей, вел занятия он так, что можно было заснуть со скуки, акцент, вместо журналистики, делал, по какому-то идиотству, зачем-то на русскую фонетику и транскрипцию — давным-давно уже расщелканные в школе под орех. А все-таки, в возможности сидеть вечерами и заниматься в университетских стенах — путь даже и легчайшей чепухой, — чудилась Елене какая-то магия.
Сидя перед материным трюмо, в джинсах уже и в любимом сиреневом легчайшем пуссере с глубоким круглым вырезом — только что вернувшись из школы и уже жарко условившись с Цапелем встретиться через полтора часа, перед занятиями в университете, — пристроив босые ступни на самый краешек топлено-малиновой овальной полированной поверхности с материными кремами, рассыпанными земляными орехами в скорлупе между круглявой блёсткой материной бижутерией, бумажными коробочками с тушью, башненками помады (так, что согнутые большие пальцы ног казались матросами, в погожий денек взлезавшими на чужой корабль — и, взявшись за борт, осматривающимися: ё-моё, что ж здесь такое?), Елена, неудобно откинувшись в материном потешном розовом поролоновом кресле, спешно распускала свою старомодную косу (которой, в сравнении с Цапелевым рококо, втайне немного стеснялась — и, когда успевала, сразу же после школы подвергала зверской завивке электрическими щипцами — мать еще более старомодно называла их почему-то плойкой) — и, пока щипцы, с внятным утюжным запахом, нагревались, одной рукой вертела перед собой черновик вступительного сочинения в шюж — умыкнутого, и теперь, спустя всего-то пару недель сумасшедшей жизни, казавшегося уже историей — и раздумывала, как бы сделать из него рассказ. Сочинение, собственно, получилось игровое, — и, пока жизнерадостный хохотливый Дьюрька, увязавшийся-таки с ней на вступительные, весело, и без малейшей рефлексии, строчил, на парте рядом, тоном передовиц и образцовым крупным разборчивым девичьим почерком, что-то про перестройку, — она, с загадочной внутренней ломкой и неуместным противоречивым вчувствованием, выдумала лирическую героиню — девушку-хиппи с Гоголе́й, со старомодной же косой (иначе, не будь она хиппи, косу некуда было бы пристроить в тексте): героиня влюбляется в панка и, чтобы проникнуть в панковскую тусовку (стричь волосы и ставить гуталином ирокез героине по неведомой причине было тоже, все-таки, почему-то малёкс жалко), одалживает у его друга черную фетровую шляпу и, под нее подобрав весь хайр, нацепив драную косуху, ровно на вечер, закашивает из гирлы́ под жабу, чтобы встретиться с любимым. В общем, вроде Монтекки и Капулетти. Места, пароли и явки, разумеется, были у нее в сочинении изменены — чтоб ненароком не накликать на реальные тусовки панков и хиппи ментов, если добровольные помощники таковых среди журналистов-преподавателей обнаружатся.

Я проработала кремлевским обозревателем четыре года и практически каждый день близко общалась с людьми, принимающими главные для страны решения. Я лично знакома со всеми ведущими российскими политиками – по крайней мере с теми из них, кто кажется (или казался) мне хоть сколько-нибудь интересным. Небезызвестные деятели, которых Путин после прихода к власти отрезал от властной пуповины, в редкие секунды откровений признаются, что страдают жесточайшей ломкой – крайней формой наркотического голодания. Но есть и другие стадии этой ломки: пламенные реформаторы, производившие во времена Ельцина впечатление сильных, самостоятельных личностей, теперь отрекаются от собственных принципов ради новой дозы наркотика – чтобы любой ценой присосаться к капельнице новой властной вертикали.
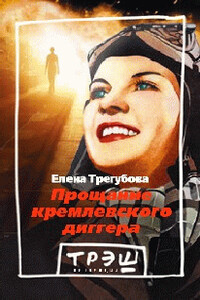
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рассказы повествуют о жизни рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Герои болгарского писателя восстают против всяческой лжи и несправедливости, ратуют за нравственную чистоту и прочность устоев социалистического общества.

Школьники отправляются на летнюю отработку, так это называлось в конце 70-х, начале 80-х, о ужас, уже прошлого века. Но вместо картошки, прополки и прочих сельских радостей попадают на розовые плантации, сбор цветков, которые станут розовым маслом. В этом антураже и происходит, такое, для каждого поколения неизбежное — первый поцелуй, танцы, влюбленности. Такое, казалось бы, одинаковое для всех, но все же всякий раз и для каждого в чем-то уникальное.

Кира живет одна, в небольшом южном городе, и спокойная жизнь, в которой — регулярные звонки взрослой дочери, забота о двух котах, и главное — неспешные ежедневные одинокие прогулки, совершенно ее устраивает. Но именно плавное течение новой жизни, с ее неторопливой свободой, которая позволяет Кире пристальнее вглядываться в окружающее, замечая все больше мелких подробностей, вдруг начинает менять все вокруг, возвращая и материализуя давным-давно забытое прошлое. Вернее, один его ужасный период, страшные вещи, что случились с маленькой Кирой в ее шестнадцать лет.