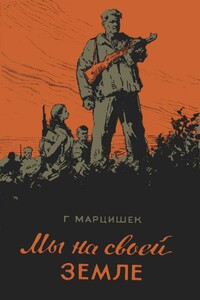Пути неисповедимы - [24]
История госпиталя, куда я попал, была такова: с самого начала войны наши расположили в Вильно, в школьном здании, военный госпиталь. Он быстро наполнился и «перешел» вскоре к немцам, что называется, в полном составе. Я застал в нем еще тех людей, которые попали сюда до падения города. Обслуживали госпиталь преимущественно гражданские лица, местные жители, в основном, поляки. Были — очень немного — и военные врачи, такие же пленники теперь, как и их пациенты. Охрану несли литовцы, но после нескольких побегов раненых их сменили немцы.
Я лежал на третьем этаже в угловой классной комнате с доской и даже умывальником. Теперь в ней стояли четыре ряда коек. Первые дни у меня была высокая температура, дышал я с трудом и все время был в полубреду. Правда, мозг отмечал, что попал я в уже сжившуюся группу людей, достаточно хорошо знавших друг Друга, и отношения между ними были не такие, как в Двинске. В основном, это были люди из местного гарнизона, у некоторых в городе были жены или подруги. Был даже чемпион округа не то по боксу, не то по борьбе. Почти все получали передачи, были сыты, бодры и, я бы сказал, даже как-то веселы. Чистые койки, хорошие классные комнаты-палаты, все в белом белье, обслуживают доктора и сестры в белоснежных халатах, санитарки, нянечки. Все это никак не вязалось с представлением о плене и было разительным контрастом с бараком раненых в Двинске. В общем, это было совершенно не типичное, даже уникальное в своем роде учреждение. (Много позже, в 1943 году, я узнал, что вскоре после моего отбытия из госпиталя туда явился немецкий генерал, страшно разгневался, кричал, что в такой госпиталь надо приглашать комиссию Красного Креста из Женевы для подтверждения гуманного отношения к советским пленным, приказал отобрать матрацы, белье, койки, а затем весь госпиталь передали для раненых немцев. Позже там были власовцы.)
Итак, в тяжелом состоянии я лежал в этом госпитале. Через несколько дней санитар понес меня на руках в перевязочную, где посадил на стол, ноги на табуретку. Чем-то помазали спину. Подошел наш палатный доктор Довгирд, симпатичный, хорошо знавший свое дело поляк, и сказал: «Потерпите немного». Я почувствовал резкую боль в боку, а через некоторое время Довгирд пронес мимо меня большой шприц полный мутноватой жидкости. Мне сказали, что у меня мокрый плеврит, возникший на почве ранения, и что сейчас отсасывали жидкость. Так же на руках санитара я попал в палату, и сразу почувствовал себя лучше. «Пила» на температурном листке резко уменьшилась (в ногах каждой койки висел такой листок, который заполнялся утром и вечером). Через несколько дней температура вновь стала скакать, и процедура выкачивания жидкости повторилась. Но и после этого температура держалась высокой примерно с месяц, мне стали делать вливания хлористого кальция, и я с удивлением переживал разливающийся при этом по всему телу жар.
Ходить я не мог, говорить было очень трудно, так что я лежал молча. Раны на спине заживали медленно, аппетита не было. Жизнь в палате шла своим чередом: выздоравливающих выписывали в лагерь, а на их место поступали новички. Правда, смена людей шла медленно, было много тяжело раненных.
Поднимались мы в семь утра, мылись. Мой сосед слева Петр Прилепин, матрос с подводной лодки, попавший в плен в сухопутном бою под Ленинградом — он был тяжело ранен в ногу — приносил воды, и я умывался. Потом завтрак — чай с хлебом, обход врача, перевязки, обед — капустный суп и на второе конина. Вечером опять чай с хлебом. Заварка для чая — смесь каких-то трав, где преобладала мята. По-польски чай — хербата. Поэтому чаепитие мы называли «гонять горбатого». Чай, конечно, не сладкий, но вволю. Хлеба мы получали по 350 граммов и был он очень хороший, не то, что в Двинске — круто заваренный и, судя по штампу на верхней корке, испеченный еще в 1937 году. Говорили, что привозят его в целлофановых мешках. В палату хлеб приносили уже нарезанным, и все зорко следили, чтобы на подносе было положенное число горбушек — этих наиболее желанных кусков. В нашей палате горбушки получали по очереди. Получивший сегодня величался королем. Если была вторая горбушка, ее получал принц, а вчерашний король назывался подчищалой.
Аппетита у меня все еще не было, и есть не хотелось, хотя паек был очень скуден, а передачи со стороны почти прекратились. Из-за скудности пайка люди ходили в уборную раз в несколько дней, и кто-то пустил довольно удачный термин «ходить козой» — получались какие-то орешки по числу съеденных паек.
Как я уже говорил, обслуживающий персонал госпиталя были жители Вильно, поляки, и говорили они между собой, естественно, по-польски. До этого я никогда не слышал польского языка. Не знал близких к нему украинского и белорусского. А здесь я постоянно слышал польскую речь, прислушивался к ней и однажды очень обрадовался, поняв вопрос доктора к дежурной сестре по поводу вновь прибывшего раненого: «Як выгленда ренька?» — как выглядит рука. Но такие словосочетания, как «брудна белизна» — грязное белье — ставили меня в тупик. Нам сказали, что к доктору надо обращаться со словами «пан доктор». Я почему-то долго не мог заставить себя выговорить это слово «пан». В польском языке «пан» — форма вежливого обращения. Это во-первых. А во-вторых, «пан» — господин, и у меня это слово ассоциировалось только с господином, а к этому нас не приучили.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
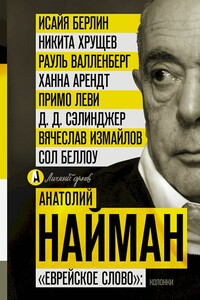
Скрижали Завета сообщают о многом. Не сообщают о том, что Исайя Берлин в Фонтанном дому имел беседу с Анной Андреевной. Также не сообщают: Сэлинджер был аутистом. Нам бы так – «прочь этот мир». И башмаком о трибуну Никита Сергеевич стукал не напрасно – ведь душа болит. Вот и дошли до главного – болит душа. Болеет, следовательно, вырастает душа. Не сказать метастазами, но через Еврейское слово, сказанное Найманом, питерским евреем, московским выкрестом, космополитом, чем не Скрижали этого времени. Иных не написано.
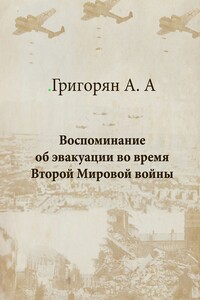
В период войны в создавшихся условиях всеобщей разрухи шла каждодневная борьба хрупких женщин за жизнь детей — будущего страны. В книге приведены воспоминания матери трех малолетних детей, сумевшей вывести их из подверженного бомбардировкам города Фролово в тыл и через многие трудности довести до послевоенного благополучного времени. Пусть рассказ об этих подлинных событиях будет своего рода данью памяти об аналогичном неимоверно тяжком труде множества безвестных матерей.

Для фронтисписа использован дружеский шарж художника В. Корячкина. Автор выражает благодарность И. Н. Янушевской, без помощи которой не было бы этой книги.