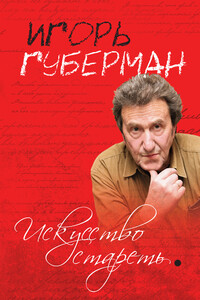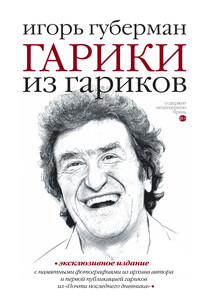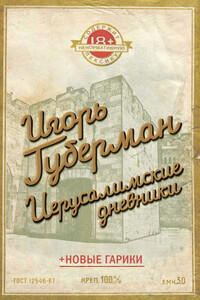А что касаемо самого происшествия, то что с нас, малых сих, спрашивать, когда сам царь Давид — мудрец и полководец, благородное существо, талант, сам Бог с ним на «ты» — не мог с собой совладать. И целый мир, со всеми его птицами и цветами, хамсинами и грозами, запахом земли и вкусом росы, со всем, что есть в нем — таинственностью ночи и чудом утра, золотистыми волнами пустыни, шепотом травы, шуршанием пены на морском берегу, — весь Божий мир воплотился для него в этом светящемся в сумерках уходящего дня женском теле.
И в ту же ночь лег Давид с этой женщиной, и она забеременела. Казалось бы, что в этом плохого? А плохо то, что была эта женщина замужем, и муж ее, Урия, хетт по национальности, был одним из командиров Давидовой армии. Сей факт говорит, кстати, о многонациональном составе Давидова царства, а также о взаимной веротерпимости, которую Давид если не установил, то поддерживал. Это, понятное дело, хорошо, а вот трахать жену своего доверенного человека — куда как плохо. А после того, как не вышло приписать своего ребенка другому, то посылает царь своего воина Урию на верную смерть и тут, как ни крути, совершает дело подлое. Впервые в своей жизни Давид бежит от ответственности, впервые человек, не побоявшийся выйти против великана, ощущает во рту кислый металлический привкус трусости.
Говоря о древних обитателях земли Израиля, так и просятся на язык слова типа «впервые», «самый», и — чего уж тут стесняться — не без оснований. Но поскольку мы никогда не претендовали на объективность и прочие глупости, то возьмем на себя смелость признаться: среди всех этих незаурядных, потрясающих, невероятных людей именно царь Давид вызывает в нас наиболее живое чувство сострадания, симпатии и участия. Возможно, потому, что он единственный мог бы понять наши беды, уразуметь горечь стыда и позора, омерзения и ненависти к себе самому и помочь не утонуть в сточной канаве наших подлостей, предательств и измен, но вылезти оттуда и найти в себе силы жить дальше, как нашел он сам после всех унижений, мерзостей и гнуси, куда загнал себя и Вирсавию, когда умер их первенец.
«И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь: когда дитя твое было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб?
И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо?
А теперь оно умерло: зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне.
И утешил Давид Вирсавию, жену свою, и вошел к ней и спал с нею; и она родила сына и нарекла ему имя Соломон».
Много страшных казней может свалиться на человека, но страшнейшая, упаси нас Господь, — когда родители хоронят своих детей. И казнь эта год от году не перестает гулять по стране Израиля, собирая свою жатву.
Нет в этой стране семьи, которая не познала бы эту боль, и если ее обошел страшный жребий, то не обошел ее родных, друзей, соседей.
Мы знаем женщину, у которой в Войну Судного дня оба сына были на фронте — один в Синае, другой на Голанах. И когда ночью постучали в ее дверь и встали на пороге офицер и две девушки из медицинской службы, она все поняла и только спросила: «Который?» И, разлепив спекшиеся губы, сказал офицер: «Оба».
А еще нам знакома секретарша нашего семейного врача, милая женщина с веселыми серыми глазами, хозяйка огромного мастифа. Сыну любовь к собакам передалась по наследству, и в армии он оказался в «собачьем взводе». Но когда в газете мелькнула фотография погибшего вчера в Газе славного парня в военной форме с собакой, то почему-то не сообразили мы (или не хотели сообразить) и только через три дня, в приемной врача, увидели эту же фотографию и текст с соболезнованием и извещением, где проходит шива — неделя траура. По малодушию своему не нашли мы в себе сил поехать к ней домой и когда через пару месяцев столкнулись с ней, то трусливо отводили глаза в сторону, не в силах поднять их на ее осунувшееся полинявшее лицо.
И так мы встречались еще несколько раз, но она держалась замечательно и однажды улыбнулась и даже рассказала что-то смешное, только серые глаза у нее были тусклыми. Не дай бог, шепчем мы суеверно, не дай бог. А ведь после этого надо жить, как жил Давид и живет эта женщина.
А царь Давид старел. И, как водится, сам он осознал это позже, чем другие. Среди прочего старость ужасна тем, что ты, сам того не замечая, становишься помехой. Во всем. Ты занимаешь чужое время, рассказывая о том, что плохо спал ночью (интересно, что подобное замечание миловидной девушки вызывает совершенно иную реакцию), и ты занимаешь место — не важно, письменный стол, кровать или престол, — на которое метят другие. И слово твое уже не слово, и если вообще его выслушивают, то из вежливости.
И если природа, в соответствии с ее неумолимыми законами, еще не убрала тебя, то об этом обязательно позаботятся твои наследники.
*
Обманчиво понурое старение:
хотя уже снаружи тело скрючено,
внутри творится прежнее горение,
на пламя только нет уже горючего.
*
С годами дни становятся короче,