Путь актрисы - [86]
Из чудовищ, уродующих жизнь, одно из страшнейших — собственничество, стяжательство. Темный проклятый инстинкт разрастается, искажая даже от природы честных людей, создает из них преступников. Эта мысль Горького пронизывает пьесу «Васса Железнова», и она как неизбежный вывод должна быть извлечена зрителями из спектакля.
Пьеса «Васса Железнова» — смертный приговор капиталистическому строю, смертный приговор и волжской пароходовладелице Вассе Борисовне Железновой.
Густыми, мрачными красками выражена в Вассе бесчеловечность капиталистки, преступающей все человеческие законы. Рашель говорит ей: «Страшная вы фигура! Слушая вас, начинаешь думать, что действительно есть преступный тип человека».
Устами Рашель не раз Горький клеймит Вассу кличкой зверя: «Да что вы — зверь?» еще: «Это… зверство!» И еще: «Чем можно тронуть дикий ваш разум? Звериное сердце?»
Но умещает ли Горький всю Вассу в понятие зверя?
Только ли зверь Васса?
«Меня никогда не прельщало исследование ценностей тех правд, которые, по древнему русскому обычаю, пишутся дегтем на воротах», — говорил Горький. Если бы он и не выразил этого так определенно и в таких точных выражениях, все равно из пьесы {198} ясно — не одним дегтем написан Горьким портрет Вассы Железновой.
Горький гневно протестовал, например, против показа на сцене «… человека, созданного Достоевским по образу и подобию “дикого и злого животного”», считал «это социально вредным…»
Горький не был бы великим реалистом, если бы счел и показал Вассу только зверем, без единства и борьбы противоположностей.
Он — великий живописец словом, великий мастер светотени.
Кому дал слово Горький в защиту Вассы?
Выслушаем этого свидетеля!
«Людмила. Вот видишь — весна, мы с Васей начали работать в саду. Рано утром она приходит: “Вставай!” Выпьем чаю и — в сад. Ах, Раша, какой он стал, сад! Войдешь в него, когда он росой окроплен и весь горит на солнце… как риза, как парчовый, — даже сердце замирает, до того красиво!.. Вот и работаем, молча, как монахини, как немые. Ничего не говорим, а знаем, что думаем. Я — пою что-нибудь. Перестану, Вася кричит: “Пой!” И вижу где-нибудь далеко — лицо ее доброе, ласковое…»
Свидетельству Людмилы можно было бы не придавать серьезного значения, ведь Людмила — «Блаженная ты у нас… Выродок… Ни на кого не похожа!» (По мнению Натальи.) Людмила — «вроде слабоумной» (с горечью констатирует Васса). Но особое зрение сообщено драматургом Людмиле: не видит она того, что видят все, а проникает взором в то, что недоступно зрению разумных.
Людмилу в раннем детстве какой-то дикой выходкой напугал отец. Странное действие это произвело на душу девочки: она перестала видеть, как темна, как страшна жизнь железновского дома, она примечает только красивое, доброе: парчовый сад, ласковое лицо матери. «Человеческую женщину» распознала, учуяла Люда в той, в ком другие не признавали ничего человеческого.
Правду о Вассе, глубочайше от всех и от самой Вассы захороненную, прозревает Люда — «полудитя», «вроде слабоумной», Люда, умудренная любовью к своей «маме Васе». Я смею думать, что Горький доверял свидетельству Люды, — так велика ли моя (актрисы) вина перед автором, если я признаюсь, что, ненавидя Вассу такой, какой она стала, какой ее сделал капиталистический строй, горячо люблю ее — ту, какой, при иных условиях жизни, она могла бы стать?
Разве неколебимая верность драматургу отнимает у актера право на свое толкование, свое решение образа? Разве кровная связь с драматургом и полная свобода от него — не нерушимое условие сценического творчества?
Как можно быть актеру на глазах тысячи зрителей, если нет у актера собственных непреклонных сердечных убеждений?
Я вижу в Вассе не только зверя, я вижу в ней человека, пусть {199} искаженного, пусть растленного «чистоганом», но все же человека.
Золото — металл нержавеющий, но страсть к золоту ржавчиной разъедает самые могучие душевные силы человека. Васса — рабыня денежного накопления. В этом — коренная причина и ее человеческого бесчестия и ее человеческого страдания.
Чрезмерно разросшееся «я» капиталистки Вассы Железновой все силы употребляет на утверждение своего господства над другими людьми, презрев великие способности человека к производству духовных благ.
И все же ощутилась мной в Вассе неистребимая, неутолимая жажда любви.
Самому жестокому, самому отвратительному, что может крыться в зверином существе капиталистки Вассы, верю, но ничто человеческое в ней не может быть для меня невероятным.
Она — сплетение двух «ипостасей»: капиталистки и «человеческой женщины».
В плену у капиталистки терзается «человеческая женщина», но, непокоренная, не дает она возможности капиталистке стать единосущной своему классу.
Обращаюсь к тексту. Васса утверждает: «Это я — класс!» Но как она ненавидит людей своего класса: «А я тебе скажу: люди-то хуже зверей! Ху‑же! Я это знаю! Люди такие живут, что против их — неистовства хочется… Дома ихние разрушать, жечь все, догола раздеть всех, голодом морить, вымораживать, как тараканов… Вот как!»
Это бунт «человеческой женщины» в Вассе. Это она — «человеческая женщина» — уверяет Рашель: «Эх, Рашель, кабы я в это (в революцию, в пролетариат —
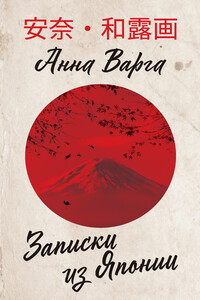
Эта книга о Японии, о жизни Анны Варги в этой удивительной стране, о таком непохожем ни на что другое мире. «Очень хотелось передать все оттенки многогранного мира, который открылся мне с приездом в Японию, – делится с читателями автор. – Средневековая японская литература была знаменита так называемым жанром дзуйхицу (по-японски, «вслед за кистью»). Он особенно полюбился мне в годы студенчества, так что книга о Японии будет чем-то похожим. Это книга мира, моего маленького мира, который начинается в Японии.
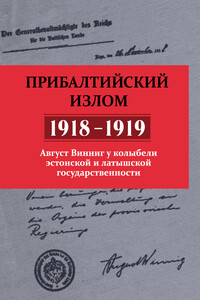
Впервые выходящие на русском языке воспоминания Августа Виннига повествуют о событиях в Прибалтике на исходе Первой мировой войны. Автор внес немалый личный вклад в появление на карте мира Эстонии и Латвии, хотя и руководствовался при этом интересами Германии. Его книга позволяет составить представление о событиях, положенных в основу эстонских и латышских национальных мифов, пестуемых уже столетие. Рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг интересующихся историей постимперских пространств.

Валентин Михайлович Фалин не просто высокопоставленный функционер, он символ того самого ценного, что было у нас в советскую эпоху. Великий политик и дипломат, профессиональный аналитик, историк, знаток искусства, он излагал свою позицию одинаково прямо в любой аудитории – и в СМИ, и начальству, и в научном сообществе. Не юлил, не прятался за чужие спины, не менял своей позиции подобно флюгеру. Про таких как он говорят: «ушла эпоха». Но это не совсем так. Он был и остается в памяти людей той самой эпохой!

В книгу вошли воспоминания и исторические сочинения, составленные писателем, драматургом, очеркистом, поэтом и переводчиком Иваном Николаевичем Захарьиным, основанные на архивных данных и личных воспоминаниях. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
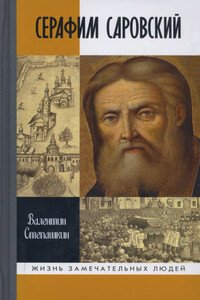
Впервые в серии «Жизнь замечательных людей» выходит жизнеописание одного из величайших святых Русской православной церкви — преподобного Серафима Саровского. Его народное почитание еще при жизни достигло неимоверных высот, почитание подвижника в современном мире поразительно — иконы старца не редкость в католических и протестантских храмах по всему миру. Об авторе книги можно по праву сказать: «Он продлил земную жизнь святого Серафима». Именно его исследования поставили точку в давнем споре историков — в каком году родился Прохор Мошнин, в монашестве Серафим.
