Пушкинские осколочки - [2]
– Таков всегдашний конец напрасных состязаний с Пушкиным, – подтвердил японец. – Возьмите хотя бы этот отрывок «Цезарь путешествовал». Всего какия-нибудь двадцать – тридцать строк, едва приступ к огромной исторической программе, а разве можно считать его «неоконченным»? Античный мир уже глядит из него во все глаза, античная форма уже предопределена, установлена и развивается. Если это неоконченность, то разве – неоконченность Ватиканскаго торса, который Микель Анджело считал самым совершенным достижением скульптуры. Недоконченность парижскаго собора Нотр-Дам, на которую не поднялись кощунственныя руки архитекторов позднейших веков: ведь, еще недавно американские миллиардеры предлагали кредиты на достройку, но французам достало ума и вкуса, чтобы отказаться наотрез. Докончить «Египетския ночи»? Легко сказать! Сколько ваятелей пытались угадать, как безрукая Венера Милосская держала руки, когда их имела, но каждый опыт снабдить ее «протезами» лишь нарушал гармонию несравненнаго кумира, и, значит, опошлял совершенство божественной красоты несовершенством условной житейской красивости.
«Незаконченность» – термин, пригодный только для тех произведений искусства, в которых творец не совладал с художественным заданием и отступил от него по безсилию довести предпринятый труд до того цельнаго слияния мыслей с образами, что мы зовем красотою. А разве это когда-нибудь бывало у Пушкина? В его словесной живописи каждый мазок, в его скульптуре каждый удар резца и молота – уже цельность. Не огромности «Русалки», «Галуба», «Египетских ночей» и т. п. имею в виду: об их художественной написаны, пишутся и еще долго, может быть, вечно будут писаться томы. Говорю об излюбленных моих «осколочках», об этих кусочках разсыпанных пушкинских мозаик, из которых, однако каждый, уже сам по себе, высокохудожественная цельность, запечатленная «гением чистой красоты».
Разве не прекрасно?
– Замечательно красиво, но… что же дальше?
– Ничего дальше? Зачем вам дальше?
– Самодовлеющий пейзаж?
– Почему же самодовлеющий пейзаж? Он для вас, читателя или слушателя, написан. Это вас поэт ставит под одинокою звездочкою в ясной лазури, между темнокрасным западом и бледною луною. Он дал вам четырьмя стихами поразительно красивый музыкальный аккорд и наметил мелодию – вступление к ноктюрну, а создать его своей мечтой – дело уже вашего впечатления и настроения. Каждый читатель и слушатель поэта должен быть, вместе с ним, сам поэтом. Если поэзия не отражается в душе внимающаго посильным ему лиризмом, то на что же она годится?
Таково, по крайней мере, наше ниппонское, азиатское разсуждение. Вы, русские, слишком глубоко ушли от Азии в Европу и слишком избалованы богатством и щедростью своей европеизированной литературы. Чтобы вызвать в себе настроение, вам мало непосредственнаго впечатления, вы требуете от своих художников еще философскаго толкования, психологическаго анализа, с логическим моральным выводом. Вы ленивы на воображение и заставляете за себя работать им авторов. А мы, Азия, сильны мечтою, любим мечту, а потому нам от поэта довольно образов, которых впечатления дарят нас мечтами, вводят в настроение, дают воображению способность поплыть, – подобно ладье, оттолкнувшейся от пристани, – каждому в свое море, под своими парусами. А «что дальше» – это уже вопрос нашей чувствительности, опять таки каждой у каждаго.
Четверостишия Пушкина, переведенныя на наш язык, приняты в Ниппоне с восторгом, как свои, положены на музыку нашими композиторами и певцами, их поют на улицах и за работой. И никто, решительно никто не спрашивает, «что дальше». Потому что они просты и ясны, как рисунки наших ниппонских пейзажистов, которые вы, европейцы, так любите, хотя, простите за откровенность, очень мало в них понимаете. Совсем не то в них ищете и видите, что мы, довольные пейзажем постольку, поскольку он позволяет нам заполнять его простор – каждому своей собственной духовной жизнью. В этом Пушкин больше наш, чем ваш: не с Европой, а с Азией.
– Что же? – усмехнулся я. – Александр Сергеевич и сам предсказывал свое будущее азиатское величие, – что назовут его и «финн, и ныне дикой тунгуз, и друг степей калмык»… А ориентолог Радлов однажды в Урянхайском крае записал народную песню, которая, как перевели ее на русский язык, оказалась дословно «Шотландскою песней» Пушкина: «Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит». Какими путями она туда забрела, – ни один евразиец не скажет…
– К слову о воронах, – подхватил японец, – вы любите, как наши художники-анималисты рисуют животных?
– Да, в особенности, птиц. Большие мастера. Их одухотворенный реализм неподражаем.
– Охотно принимаю ваше определение. Да, одухотворенный реализм. Так вот, погодите, когда-нибудь, – и ждать недолго, – выйдет у нас иллюстрированное издание Пушкина… Согласитесь, что русския – все без исключения – до настоящаго времени оставляют желать лушаго…
– Имеете право выразиться смелей: за малыми исключениями, просто безобразны.
– А вот мы вам покажем, что значит внутреннее родство одухотвореннаго реализма нашей живописи и графики с одухотворенным реализмом словесной живописи Пушкина. И, в особенности, именно в отделе «осколочков», где у Пушкина целый птичий двор и зверинец. Нам и заказов новых делать не придется. Стоит только походить по мастерским, да сделать выбор лучшаго, что наготовлено в столетиях. Какого «невольника-чижика», который, «забыв и рощу, и свободу, зерно клюет и брызжет воду, и песней тешится живой», знаю я в одной лавке в Иеддо! Какую «стрекотунью-белобоку, пеструю сороку», пророчицу гостей, – как она скачет под лучем зари алым, серебрящим снежный прах! Все предвидены, все найдутся. И лев, оборотень «алчнаго греха», «следящий грешника-оленя бег пахучий, ноздри пыльныя уткнув в песок зыбучий». И первая пчелка «на проталинах весенних». И все лесное зверье, собравшееся «ко медведю, ко боярину» оплакивать убитую медведиху…

Однажды в полицейский участок является, точнее врывается, как буря, необыкновенно красивая девушка вполне приличного вида. Дворянка, выпускница одной из лучших петербургских гимназий, дочь надворного советника Марья Лусьева неожиданно заявляет, что она… тайная проститутка, и требует выдать ей желтый билет…..Самый нашумевший роман Александра Амфитеатрова, роман-исследование, рассказывающий «без лживства, лукавства и вежливства» о проституции в верхних эшелонах русской власти, власти давно погрязшей в безнравственности, лжи и подлости…
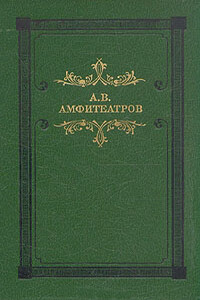
Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.Из раздела «Италия».

В Евангелие от Марка написано: «И спросил его (Иисус): как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, ибо нас много» (Марк 5: 9). Сатана, Вельзевул, Люцифер… — дьявол многолик, и борьба с ним ведется на протяжении всего существования рода человеческого. Очередную попытку проследить эволюцию образа черта в религиозном, мифологическом, философском, культурно-историческом пространстве предпринял в 1911 году известный русский прозаик, драматург, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик Александр Амфитеатров (1862–1938) в своем трактате «Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков».
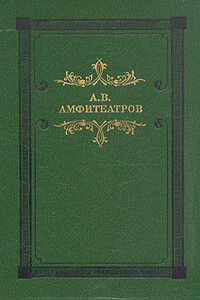
Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.
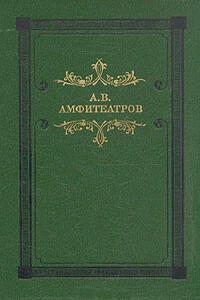
Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.Из раздела «Русь».

Амфитеатров, Александр Валентинович [14(26). XII. 1862, Калуга - 26.II.1938, Леванто (Италия)] - окончил юридический факультет Московского университета (1885). В начале 80-х годов стал фельетонистом газеты “Новое время”. Много путешествовал (Италия, славянские страны), печатал корреспонденции в русских газетах. В 1899 году основал совместно с Дорошевичем газету “Россия”. В 1902 году за фельетон о царской семье был выслан в Минусинск. После 1920 года эмигрировал за границу, заняв враждебную позицию по отношению к советской власти.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Прочитал в «Сегодня» о кончине М. В. Ватсон. Откровенно сказать, я уже лет семь почитал ее отошедшею из мира сего в пребывание «со духи праведны». В газетах – ошибкою – было, и опровержений не последовало. А было даже не о смерти, но уже о каком-то безобразии, якобы учиненном беспризорными или иными подсоветскими хулиганами над ее могилою на петербургском Волковом кладбище. Помню, я тогда еще подивился, как же это вышло, что мы, зарубежники, проморгали смерть такой замечательной, единственной в своем роде женщины и узнаем о ней только из заметки о кладбищенских непорядках?..».

«Предсвяточное событие Белокаменной – смерть Захарьина. Когда я увидел это неожиданное известие в „Московских ведомостях“, я, право, не поверил своим глазам и даже протер их:– Как же это? Захарьин, сам Захарьин – и вдруг умер?!.».

«„Душа Армии“ ген П. Н. Краснова, с обширным предисловием г. Н. Н. Головина, представляет собой опыт введения в почти что новую и очень молодую еще науку „Военной психологии“. Военно-педагогическое значение этой книги подлежит критике военных специалистов, к которым себя отнести я никак не могу. Думаю, однако, что военно-критическая задача уже исчерпывающе выполнена двадцатью пятью страницами блестящего головинского предисловия. Дальнейшая критика, может быть, прибавит какие-нибудь замечания и соображения по технике военного искусства, темной для нас, штатских профанов, но глубокое психологическое содержание труда П. Н. Краснова освещено ген Головиным полно, ярко и проникновенно…».

«К концу века смерть с особым усердием выбирает из строя живых тех людей века, которые были для него особенно характерны. XIX век был веком националистических возрождений, „народничества“ по преимуществу. Я не знаю, передаст ли XX век XXI народнические заветы, идеалы, убеждения хотя бы в треть той огромной целости, с какою господствовали они в наше время. История неумолима. Легко, быть может, что, сто лет спустя, и мы, русские, с необычайною нашею способностью усвоения соседних культур, будем стоять у того же исторического предела, по которому прошли теперь государства Запада.